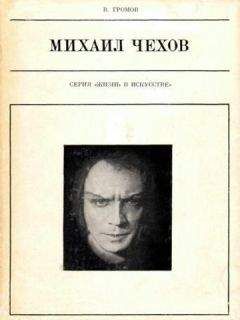Михаил Громов - Чехов
Разноцветные огоньки лампад перед иконами, наивная лирика детской молитвы… От них требовали подвига, они поднимались в полночь, чтобы репетировать в самодеятельном церковном хоре Павла Егоровича, и чувствовали себя «маленькими каторжниками». Они были дисканты, таганрогские драгили пели басами, отец играл на скрипке, задавая тон. У него были музыкальные способности и хороший слух.
Законоучитель гимназии протоиерей Ф. Покровский резко порицал его.
«Свою нелюбовь к нашему отцу за его религиозный формализм он перенес на нас, его сыновей. Уже будучи взрослым, брат Антон рассказывал не раз, как Покровский в разговоре с нашей матерью, в присутствии его, Антона, высказал такое мнение:
— Из ваших детей, Евгения Яковлевна, не выйдет ровно ничего. Разве только из одного старшего, Александра».
Отец Федор ошибся, но не во всем: Александр, Николай и Антон выросли неверующими, и в этом смысле из них действительно не вышло ровно ничего. Конечно, Павел Егорович хотел «как лучше», но так уж получилось: дети перемолились.
«Религии у меня теперь нет», — писал Чехов в зрелые годы, и вряд ли это было написано с чувством благодарности к отцу.
Если педагогические замыслы Павла Егоровича то и дело рушились, а надежды, которые он возлагал па Своих сыновей — на Антона в особенности, — не сбывались самым роковым образом, то в этом нетрудно усмотреть поучительную закономерность. Его воспитательная система угнетала природные задатки, заложенные в детях, и, чтобы вырастить их по-своему, ему нужно было просто-напросто сломать их.
Ou хотел, чтобы сыновья стали коммерсантами, купцами, потому что сам был купцом; лишь после разорения он понял, что судьба купца — не лучшая или, во всяком случае, не единственно возможная из судеб человеческих.
«Не дай Бог никому испытать бедность, а всему причина, что я не учился ничему другому, кроме торговли… я теперь считаю — счастливым всякого мастерового, портного, сапожника, слесаря, столяра и кузнеца… а как я кроме торговли ничего не знаю и теперь она не в моей власти, даже служить торговле ее дают настоящие купцы».
Павел Егорович жил и торговал по старинке, в прейскуранте его лавки было много лишнего, прямо-таки музейного — кому, например, нужна была теперь кучелаба, ассафетида или, скажем, семибратняя кровь? Или спитой чай, который собирали в трактирах, высушивали и предлагали потом по копейке за фунт?
Так и случилось, что в то время, когда таганрогский коммерсант Вальяно проворачивал свои миллионные аферы (впоследствии все столичные газеты писали о них с почтительным изумлением), таганрогский купец Чехов прогорал, и во всем городе не нашлось пятисот рублей, которые спасли бы его от разорения и позора. Чтобы выжить, чтобы торговать с выгодой или хотя бы без убытка, нужна была иная, современная хватка, конъюнктурная сообразительность, готовность к риску; тут нужно было, как на Руси говорили, «Бога забыть». Этими качествами Павел Егорович не обладал, за что и был, как сказано в официальной бумаге, «обращен из купцов в мещане».
Судьба чеховского семейства была глубоко типичной.
«…Множество промышленных и торговых заведений закрылось, и хозяева их выехали в другие места или же остаются без дела, испытывая разные лишения… Тогда как в других городах жалуются на недостаток и дороговизну квартир, у нас множество жилых помещений остаются пустыми, и банки не находят покупателей на заложенные и не проданные в срок дома. Вот уже несколько лет не видно никаких построек, и даже дома, начатые постройкою, остаются не оконченными…» — писали в таганрогской газете в 1881 году.
Из Москвы в Таганрог шли отцовские письма, тревожные и наставительные: «…смотри хорошенько за домом и во дворе чтобы было чисто и не поломано ничего. Хозяйствуй как сам знаешь, только чтобы все было хорошо, как при нас».
Между тем дом был отобран за долги, своего в нем почти ничего не осталось — только «кофейник медный да два таза медных», да еще зеркало, которое Евгения Яковлевна просила привезти в Москву — «а то у нас зеркала нет, хоть в лужу смотри».
Павел Егорович верил, что дела его каким-нибудь чудом поправятся, и, как утопающий, хватался за соломинку: «Главное, мои книги лавочные забери… иначе все дело пропало».
Трудная Антону досталась задача — «хозяйствуй как сам знаешь…».
В письмах Павла Егоровича преобладал суровый, учительный тон; больше всего они походили на пасторские послания, пересыпанные общеизвестными изречениями и афоризмами.
«Ради Бога, — писал отцу Александр, — прошу Вас, пишите потеплее, по душе, а то у Вас, папаша, только одни наставления, которые мы с детства зазубрили… Тут так на душе тяжело, так в голове мрачно, ищешь дружеского утешения и сочувствующего слова, а получаешь приказание ходить в церковь…»
По этим письмам нетрудно разложить по пунктам воспитательную систему Павла Егоровича.
«Держись религии, она есть свет истинный» — это, вероятно, во-первых. Затем «ее надейся на свои способности и при том же никогда не гордись своим знанием. При высоком учении необходимо нужно смирение». И вот еще что: «Относительно убеждений каждого смертного человека я скажу, что все ошибаются и заблуждаются, кто придерживается своих убеждений, убеждении своих можно держаться, но и других должно слушать, потому что молодой человек видит только из теории или книги, а на практике он еще не смыслит, мотивировать можно, но и соглашаться всегда должно с опытными старыми людьми. Нас собственные убеждения не будут хлебом кормить». Далее о высшем образовании: «Университет рассадник своеволия, без строгого контроля всякого студенты как хоч, так и живи, какая надобность до нравственности, знал бы лекции. Начало премудрости есть страх Божий».
И наконец, самое главное: «…в особенности мы боимся за тебя, как бы ты в отсутствии нашем не испортил своей нравственности, за тобою некому следить, как ты живешь, а своя воля может человека спортить…»
Это ведь целое мировоззрение — «нас собственные убеждения не будут хлебом кормить». И какое целостное, завершенное в своей примитивности: «своя воля может человека спортить»! Когда за всякий самостоятельный шаг, за ловлю птиц, за вечер, проведенный на театральной галерке или в городском саду; когда за всякое живое суждение и вообще за всякий поступок, не согласованный с авторитетом отца, полагается затрещина или порка, то само побуждение к действию постепенно замирает, в обескураженной душе воцаряются робость и странная лень — робость, лень, захолустье душевной обломовки.
Из воспоминаний таганрожцев известно, что Антон был тихим, домовитым мальчиком, помогал матери по хозяйству, стирал себе воротнички, шил жилеты и брюки, целыми днями сидел в лавке, но учился плохо — за первые пять гимназических лет дважды оставался на второй год (из-за арифметики, географии и греческого языка). Ничто не предвещало в нем не то что будущего большого писателя, но и просто порядочного земского врача.