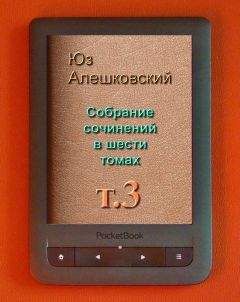Алекс Росс - Дальше – шум. Слушая ХХ век
В написанном в 1902 году рассказе Gladius Dei молодой человек по имени Иеронимус гуляет по Мюнхену, родному городу Рихарда Штрауса, и сердито разглядывает окружающую его нелепость. Он заходит в художественный салон и ругает хозяина за то, что тот выставляет кич, ведь искусство “прекрасно” и потому ничего не стоит. “Неужели мнят люди скрыть под яркими красками нужду и горе мира сего? – кричит Иеронимус. – Неужели мнят, что кликами, прославляющими торжество изысканного вкуса, можно заглушить стон страждущей земли?.. Искусство – священный факел, который должен милосердием осветить все ужасающие глубины, все постыдные бездны человеческого бытия. Искусство – божественный огонь, который должен зажечь мир, дабы весь этот мир, со всем своим позором, со всей своей мукой, вспыхнул и расплавился в искупительном сострадании!”[11]
По всей Европе конца века странные молодые люди взбираются по узким лестницам в мансарды и открывают двери тайных мест. Оккультные и мистические сообщества – теософы, розенкрейцеры, каббалисты, неоязычники, последователи Сведенборга – обещают бегство от современного мира. В политике коммунисты, анархисты и ультранационалисты пытаются, каждый по-своему, свергнуть квазилиберальные европейские монархии, Лев Троцкий, находящийся в 1907–1914 годах в венской эмиграции, начинает издавать газету “Правда”. В зарождающейся психологии Фрейд отдает “Я” на милость “Оно”. Мир нестабилен, и создается ощущение, что одна колоссальная Идея или, если ее не сформулируют, одна хорошо подложенная бомба разрушит его. Повсюду царит приятно возбуждающее чувство неизбежной катастрофы.
Вена того времени казалась сценой решающего сражения между буржуазией и авангардом. Меньшинство “правдоискателей”, как их назвал историк Карл Шорске, или “критических модернистов”, по выражению философа Алана Яника, все сильнее возмущались безудержным эстетством города, его привычкой покрывать золотом любую поверхность. Они видели, как общество, выглядевшее современным, либеральным и толерантным, оказывалось неспособным сдержать свои обещания, обрекая значительную часть граждан на бедность и нищету. Они выступали в защиту отверженных, сделанных козлами отпущения гомосексуалистов и проституток. Многие из “правдоискателей” были евреями и начинали понимать, что евреи никогда не смогут ассимилироваться в антисемитском обществе, сколь бы велика ни была их преданность немецкой культуре. Перед лицом большой лжи о культе красоты, а именно такой была риторика того времени, искусство становилось все более негативным и критическим. Нужно было отделить себя от плюрализма буржуазной культуры, которая, как это показала “Саломея”, обзавелась своим авангардным подразделением.
Наступление на кич шло на всех фронтах. Критик и единственный автор журнала Die Fackel (“Факел”) Карл Краус разоблачал то, что считал ленью и фальшью в журналистском языке, ставшие нормой несправедливые решения суда и лицемерие популярных художников. Архитектор Адольф Лоос критиковал art nouveau за манеру покрывать обильным орнаментом даже повседневные предметы и в 1911 году шокировал город и императора лишенным украшений полуиндустриальным фасадом коммерческого здания на Михаэлерплац. Мрачные картины Оскара Кокошки и Эгона Шиле противопоставили софт-порно художественного мира ненасытную похоть и сексуальное насилие. Поэзия Георга Тракля тщательно документировала наступление безумия и самоубийственного разочарования: “Теперь я наедине с моим убийцей”.
Участники этого неформального кружка могли не ценить работы друг друга (богемный поэт Петер Альтенберг предпочитал Шенбергу и его ученикам Пуччини и Штрауса), но смыкали ряды, когда обыватели переходили в наступление. Никто не мог отступить. “Если бы я должен был выбрать меньшее из двух зол, – говорил Краус, – я бы не выбрал ни одно”.
Самым агрессивным из венских правдоискателей был философ Отто Вейнингер, который в 1903 году в возрасте 23 лет застрелился в доме, где умер Бетховен. В городе, где самоубийство считалось искусством, поступок Вейнингера восприняли как шедевр. Посмертно изданная докторская диссертация Вейнингера – странный трактат “Пол и характер” – стала бестселлером. Главный тезис книги состоял в том, что Европа страдает от расового, сексуального и этического вырождения, а причина этого – необузданная женская сексуальность. Еврейство и гомосексуальность – атрибуты феминизированного, эстетского общества. Только маскулинный Гений сможет возродить мир. Вагнер был “величайшим человеком после Христа”. Как это ни странно сейчас, но книга, бессвязная и фанатичная, привлекала таких здравых читателей, как Краус, Людвиг Витгенштейн и Джеймс Джойс, не говоря о Шенберге и его учениках. Молодой Альбан Берг жадно читал работы Вейнингера о культуре, подчеркивая фразы подобно этой: “Все исключительно эстетическое не имеет культурной ценности”. Витгенштейн, который провозгласил своей миссией изгнание из философии псевдорелигиозного жаргона, цитировал Вейнингера, когда формулировал свой афоризм “Этика и эстетика едины”[12].
Риторика венского авангарда заслуживает тщательного анализа. Некоторые из этих “откровений” (глупые обобщения по поводу женщин, оскорбительные замечания о сравнительных качествах рас и классов) не в состоянии впечатлить современного читателя. Укорененное в протестантизме и ненависти к самому себе представление об “этике” у Вейнингера столь же лицемерно, как и у его современников. Как и в другие периоды культурного и социального бунта, революционные жесты выдают реакционное сознание. Многие участники модернистского движения позже откажутся от некогда модной солидарности с социальными изгоями в пользу разных форм ультранационализма, авторитаризма и даже нацизма. Более того, подчеркнуто антисоциальный класс художников мог выжить и найти аудиторию только в процветающем, либеральном, обожающем искусство обществе. Буржуазное поклонение искусству дало художникам ощущение непогрешимости, согласно которому воображение создавало собственные законы. Именно эта ментальность сделала возможными крайности современного искусства.
Если этическое оправдание модернистского крестового похода звучало фальшиво, то у композиторов оставался по крайней мере один убедительный повод восстать против буржуазного вкуса: господствующий культ прошлого угрожал самому факту их существования. Да, Вена была без ума от музыки – но от старой музыки Моцарта, Бетховена и Брамса. Канон обретал форму, и современная музыка начала исчезать из концертных программ. В конце XVIII века репертуар лейпцигского Гевандхаус-оркестра на 84 % состоял из музыки здравствующих композиторов. К 1855 году эта цифра снизилась до 38 %, к 1870-му – до 24 %. В то же время массовая аудитория все сильнее увлекалась кекуоком и другими популярными новшествами. Логика Шенберга была такова: если буржуазная публика теряет интерес к новой музыке, а классическая – что новая, что старая – не интересует появляющуюся массовую аудиторию, то серьезный художник должен перестать размахивать руками, пытаясь привлечь к себе внимание, и уединиться, сохраняя принципиальное одиночество.