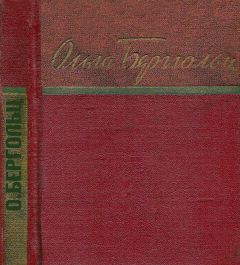Ольга Ваксель - «Возможна ли женщине мертвой хвала?..»: Воспоминания и стихи
Дом был очень стар, давно не ремонтировался, на деревянной крыше вдоль желоба росли кустики, летом даже цветочки. Говорили, что в доме живут привидения, что бабушка в тоске по умершем муже вызывает каждую ночь его дух, который носится с шелестом по комнате, гасит свечи, шевелит занавески. Даже моя мать и отчим уверяли, что однажды, засидевшись поздно в столовой за чтением, чувствовали его присутствие: пронесся ветер, пламя свечи совсем пригнулось, послышался протяжный вздох.
Дети тоже верили этим рассказам и даже играли в духов. Самая хитрая — приемыш Клавдия, — пользовалась нашим страхом, стучала в стенку и уверяла, что это духи. Потом нашла дырку в стене и говорила, что там живут феи и что их можно видеть.
В воскресенье нас повезли в церковь, хотя она находилась всего в версте. Нас — ребятишек — свалили всех в кучу в большие розвальни на солому, покрытую ковром. Сани толчком двинулись вперед, половина вывалилась в снег, было много визгу и смеха. Бабушка в парадной шали и ротонде ехала в других санях.
Церковь была маленькая, бревенчатая. Певчих не было. Служба прошла быстро. Воскресный обед, особенно вкусный и торжественный, вызывал у детей соревнование в поедании сладкого. Специальностью Феоны было блюдо, называемое «юнга». Это была булка, пропитанная вареньем и залитая сливками. Кормили шесть раз в день, при этом так, что встать из-за стола бывало трудно.
Дни были короткие, рано темнело, нам не позволяли далеко уходить от дома. Но мы успевали сбегать к речке Кистендей с обрывистыми меловыми берегами и в конюшню, покормить лошадей сахаром, который мы бессовестно крали из-под носа Феоны. У каждого были любимицы, у меня: старая, седая «Моргушка», моя будущая учительница, и вороная «Гитарка» с белой звездочкой во лбу.
Бабушка, бывшая балерина, сохранившая и в старости молодые привычки, тоже часто выходила пройтись по саду, проведать лошадей, иногда навестить мельника. Между трапезами она сидела в своей комнате, полной реликвий, и предавалась воспоминаниям. Попасть к ней значило либо получить выговор, либо быть обласканным. И то и другое случалось очень редко. В комнате пахло старинными духами «Le jardin de mon cure»[102], в овальных paмах висели дагерротипы и фотографии дней ее молодости. Перед иконой в остекленном киоте красного дерева всегда горела лампадка на цепочках.
Сама бабушка с большими серыми глазами, худощавая и подвижная, имела много горя, но держалась бодро. Ее младший любимый сын застрелился недавно, заболев; ее сын Федя собирался жениться на дочери немецкого колониста, арендатора фруктового сада. Все были против, и он часто запивал. Леля (мой отчим) женился на разводке[103], о которой шли предосудительные слухи: четыре года она жила на свои заработки, одевалась по моде и, говорят, у нее были наклеенные брови[104]. Но все-таки — родственница.
В эту зиму я начала учиться письму и арифметике, читать я уже умела. Арифметика не шла в голову, отчим сердился и говорил: «Я тебе, кажется, разжевал, надо только проглотить» — все, что осталось от этих уроков.
Вернувшись в Гатчину, я впервые обратила внимание на то, что дом наш не так уж велик, моя комната не так уютна, как мне казалось раньше. Кроме того, от меня ушла моя любимая няня Оня. Она вышла замуж за того вестового, который мне рассказывал сказки. У меня появилась какая-то мерзкая старушонка, маленькая и сгорбленная, ходившая в темных ситцах с цветочками, была крайне хитра, обжорлива и нечистоплотна. Последним в ряду ее художеств было посещение нами десятикопеечной бани. Пока она парилась, я а ужасом смотрела на всяких каракатиц, ползавших в пару.
Меня спасло появление моей бывшей няньки Маши, с удивлением обнаружившей мое присутствие в столь странном для меня месте. Она отвела меня домой и пожаловалась маме. Вскоре явилась моя старуха и доложила, что девочка пропала. Моя мамаша показала ей пальцем на дверь без лишних слов. Зато мой отчим, давая ей расчет, метал громы и молнии Он так орал, что тряслись стены и звенели, стекла.
Опять я осталась: без присмотра, только Алина, француженка Паши Шуберской, приходила за мной, и мы гуляли в Приорате или ходили к Балтийской ветке, где был аэродром[105]. У нее был роман с каким-то пилотом. Их было тогда немного, и он казался героем, чуть ли не полубогом.
Несколько раз появлялся мой ветреный отец. Он бывал редко и ненадолго, блистал галстухами и манерами, возил меня покупать игрушки, капризничал за обедом, при отъезде долго крестил и целовал меня, коля усами. Однажды он появился с новой женой[106]. Она была очаровательна, вся закутана в меха, но говорила мало, держалась просто и тоже повезла меня покупать игрушки. Мы купили бегающего крокодила, от которого удирала вся прислуга, и маленького пушистого Бадю (заводную обезьяну, кувыркающуюся через голову) взамен потерянной солдатами где-то под Харьковом в командировке из окна вагона. Они заводили механизм и вывешивали ее на веревочке вокруг шеи на устрашение мужиков на станциях. Она двигала всеми лапами и производила впечатление живой.
Иногда меня брали в Петербург. Тогда мы бывали у тетки Прасковьи Александровны Саловой, папиной старшей сестры, бывшей замужем за товарищем министра путей сообщения Василием Васильевичем Саловым[107], очень милым, но очень старым человеком. Тетя Патя была белокура, голубоглаза, с прекрасным цветом лица, всегда жизнерадостная, тратившая уйму денег на шляпки. У нее мне очень нравилось: ее попугаи, черепахи, лягушки, коты — все меня занимало. Попугаи ругались предпоследними словами, свистели пронзительно и важно разгуливали по карнизам, когда их выпускали из клеток. Черепахи зимой спали в плетеной корзинке, летом бегали по комнатам или в саду, и каждый вечер с наступлением сумерек поднимали весь дом на ноги — их приходилось отыскивать. Лягушки жили в банке и служили вместо барометра. Когда было сыро, они вылезали на приставную лесенку, когда было сухо, забирались пониже. Тетка таскала с собой пару зеленых древесных лягушек в коробочке и всегда пугала мою мать, выпуская их неожиданно на стол или на рояль.
У тети Пати я могла трогать и делать все, что хотела: я заказывала для себя обед, писала на машинке, колотила по роялю, рвала комнатные цветы и таскала за хвосты сибирских красавцев, нещадно оравших, но кротких.
Мой обед в теткином доме, превратился, наконец, в стандарт: суп с «бумбуличками» (вермишель), макаронами с сыром и куриные котлеты. На сладкое клюквенный кисель с сахарной пудрой. С собой мне давали лепешки крем-брюле и шоколад «Гала-Петер».