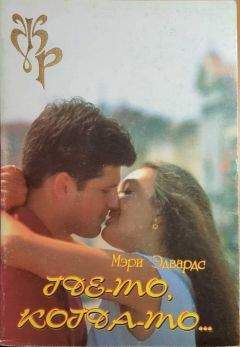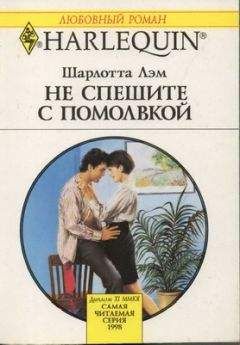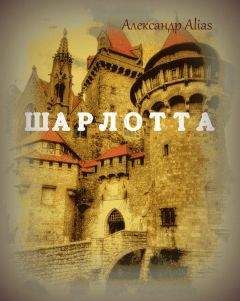Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал
В Самарканд я попал почти через двадцать лет, в 1960 году. В Ташкенте была устроена выставка художников — графиков среднеазиатских республик, и меня пригласили приехать, посмотреть выставку и на другой день сделать о ней доклад на обсуждении. Я так и сделал, прочитал свой доклад и, когда на третий день всех участников выставки и обсуждения повезли на экскурсию в горы, не поехал туда, а отправился в Самарканд вдвоем с художником С. В. Редькиным, бывшим моим учеником по художественному институту. За день, проведенный в Самарканде, я успел бегло осмотреть любимые мною архитектурные памятники — Регистан, мечеть Биби — Ханым, вереницу мавзолеев Шахи- Зинда на Афросиабе. Но моя главная цель была пойти на могилу моей матери.
Я пришел туда — и не нашел могилы! Плита, лежавшая на ней, исчезла, исчезли и все зарисованные мною приметы. У меня был с собой перочинный нож, я попробовал им рыть землю на том месте, где, как я предположил, может быть занесенная песком плита, но сразу бросил это занятие, поняв, что такого произойти не могло. Тогда я пошел к директору кладбища. Из служебного домика вылез человек в драном костюме, в кепке, страшно худой, страшно небритый и с одной щекой! Я попросил, чтобы он показал мне записи погребенных в начале сороковых годов, он принес мне пачку тетрадок, когда‑то насквозь промокших и почти рассыпавшихся в прах, со сделанными чернилами записями, расплывшимися в бесформенные пятна. Но тетрадки за 1942 год не оказалось вообще. Я спросил, где прежний директор, Бальмели. Небритый и однощекий человек буркнул: «Сидит». «За что?» «Продавал памятники». Что ж, объяснилось исчезновение плиты, но не больше. Этот тощий дядя показался мне карикатурным олицетворением все стирающего Времени, дурацкой пародией на Сатурна. Я вернулся на кладбище и вдруг нашел место могилы: около нее и другой, соседней, стояла высокая и легкая большая прямоугольная железная ограда без всяких памятников, без всяких надписей, чуть не доверху заполненная очень высокой густой ярко — зеленой и свежей травой, которая вся была пронизана цветущими бледнолиловыми ирисами! Это было так красиво и так величественно, что я вполне успокоился и вернулся в Ташкент в восхищении от найденного мною молчаливого, но необыкновенно внушительного и поистине поэтического увековечивания памяти моей мамы.
Когда в 1967 году на 92–м году жизни умер мой отец, я на вертикально стоящей черной плите на Востряковском кладбище велел выбить надпись: «Памяти Дмитрия Николаевича Чегодаева, ученого — химика, 1875–1967, похороненного здесь, и его жены Юлии Николаевны Чегодаевой, 1880–1942, умершей и похороненной в Самарканде».
Я пропустил один эпизод 20–х годов, о котором нужно рассказать. Чтобы хоть немного успокоить маму после смерти в 1924 году Кости Гиршфельда, мы увезли ее в Крым, в Алупку (впервые и в ее, и в моей жизни), а в следующем 1925 году — в Евпаторию, а после нее снова в Алупку. Как ни была она грустна, благодатная крымская природа не могла не подействовать успокаивающе на ее больное сердце.
На прекрасной фотографии, снятой в Евпатории в 1925 году, мама и мой брат Митя (которому тогда было семнадцать лет) сидят на бесконечно широком пустынном пляже, состоящем из тончайшего нежнейшего песка, перемешанного с великим множеством разноцветных ракушек. Митя улыбается, а у мамы лицо грустное и встревоженное — душевное спокойствие у нее исчезло надолго, почти навсегда, но она все же радовалась чудесной природе.
После этой фотографии она очень долго не снималась, и существует лишь одна (и последняя) фотография, снятая в самом конце тридцатых годов, около 1940 года, на Новосущевской улице. Эта очень похожая фотография — лицо мамы (ей здесь почти шестьдесят лет) нисколько не постаревшее, спокойное, чуть — чуть улыбающееся, проникнуто глубокой нежностью и добротою. Такой она осталась до конца (до которого было совсем недолго), такой приехала осенью 1942 года в Самарканд, только сильно похудевшая после уральского голода. Она никогда ни на что не жаловалась, никогда не говорила о своих болезнях, и в Самарканде, прекрасно зная, что идут ее последние дни, только радовалась, что она с нами, что видит нас.
Я хорошо помню приезд бабушки и тети Кати с детьми в Самарканд. Помню, как поздней ночью их как‑то размещали в нашей небольшой комнате, укладывали на полу. Помню странное, мертвенное лицо бабушки в свете «коптилки» (в нашем кишлаке не было электричества). Мама потом признавалась, что это лицо поразило и ее — так явно лежала на нем печать смерти. Утром это впечатление прошло, и какой‑то срок, очень небольшой, бабушка была относительно здорова и радостна. Она была счастлива встрече с сыном — они подолгу разговаривали, держась за руки, и она повторяла: «Я уже не увижу ни Митю (сына), ни Митю (мужа), так хоть Андрея увидела!» И — уверенно о сыновьях: «Митя хорошенький, а Андрей красивый!» Помню похороны — как меня посадили в извозчичью пролетку рядом с гробом. Двинулись медленно: взрослые шли за пролеткой, а посередине пыльной улицы сидел, глядя нам вслед, скрестив ноги по — турецки, брат Сашка, старший сын тети Кати — ему было лет пять, наверное…
Дмитрий
В написанной части этих воспоминаний я уже многое сказал о моем отце, сказал разрозненно и бегло, и сейчас нужно связать воедино эти разрозненные упоминания и многим дополнить.
Я уже сказал где‑то в самом начале, что жизнь моего отца сложилась очень непросто, со многими переменами, часто большими и тяжелыми сложностями, но жизнь яркая и очень значительная, достойная самого глубокого уважения. Я бесконечно многим ему обязан, не меньше, чем маме, к своей великой радости унаследовав многие важнейшие черты и особенности характеров их обоих.
Отец родился 25 октября 1875 года. Детство и отрочество его, как я уже рассказывал, прошли в трудной и стесненной обстановке. Отец его (мой дед) умер, когда моему отцу было шесть лет; его мать, судя по всему, относилась к своим детям как к обузе, понимала свое княжеское достоинство как дарованное самим Господом Богом право ничего не делать, вести чисто паразитический образ жизни. Она преспокойно бросила работу и взвалила на плечи шестнадцатилетнего сына все заботы о заработке, материальном обеспечении и ее самой, и двух его братьев и двух сестер. Правда, благодаря такому ее отношению мой отец очень рано получил полную самостоятельность в своих суждениях о жизни, о встречных людях. Это было самое суровое и самое демократическое воспитание, без всяких барских стремлений.
Было бы, конечно, лучше, чтобы в ранних письмах моего отца не попадались такие грустные слова: «Ведь у меня теперь ничего нет, пойми, ничего светлого и хорошего. Дома пилит мама за то, что я отравляю своим поведением ее жизнь; товарищи принуждены были сознаться во всем, и хоть и выпущены, но не весело чувствуют себя: за мной вечно следует сыщик и т. д. и т. д.» (12 октября 1899 года).