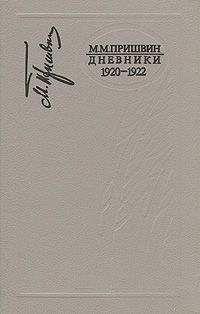Михаил Пришвин - Мирская чаша
С какой бы радостью он и сам сию же минуту отдал свою жизнь в схватке с врагом, но враг был везде, а лица не показывал. Нельзя же дьякона считать врагом, – если бы с ним встретиться в бане, попариться вместе, то он оказался бы добрейшим человеком; ругательному солдату сказать «ваше благородие» и дать восьмушку табаку – побежит вслед, как собака; дерзким мальчишкам дать парочку идей для грандиозного плана ликвидации мужицкой России, чтобы они увидели в этом ключ к царству небесному на земле, и мальчики будут на побегушках. Все они не знают, что творят, и сам комиссар земледелия в пьяном виде открыл свою душу: «Все мое, – сказал он, – и земля, в лес, и вода!»
Кто же враг?
«Большевики», – говорят все кругом, но никто не потрудится при этом подумать, что суд его прямо соприкасается с личным раздражением и всякий укол приводит к одной неподвижной идее, большевики, в этом почти все одинаковы, все маниаки, как поврежденный солдат.
– Кто же мой враг, покажись!
Открылась просека, и по ней с возом дров ехал старик с обвязанной головой на больной буланой лошади с большими темными пятнами вокруг глаз. И бывает же так, этот Лазарь остановил возле Алпатова лошадь, крепко выругался матерным словом и едет дальше как ни в чем не бывало.
– Стой! – остановил его Алпатов. – Ты за что меня ругаешь?
– Я тебя не ругаю.
– Зачем же ты возле меня остановился?
– А кому же мне Его выругать?
– Кого?
– Кто выгнал меня, больного старика, в лес за дровами.
– Председателя?
– Я сам председатель.
– Кого же ты ругаешь?
– Его же, батюшка, Его: за что ни возьмешься, все Он мешает и все рассыпает. Он против нас хозяйствует, а тебя за что мне ругать?
И правда: Лазарь улыбался ему такой улыбкой, как при похоронах улыбался хороший священник его родной деревни, отец Афанасий: он так улыбается, а все кругом плачут.
Старик, сам больной, и на больной лошади, и с возом дров, даже просил Алпатова подсесть к нему, но просека – далекий путь, тропинкой к большаку он пошел скорее, неотступно размышляя о Нем.
«Надо быть, как этот старик, видеть врага в образе черта с рогами, или сектантом и партийным человеком, каким-нибудь большевиком, меньшевиком, эсером, но все это психология первобытная».
Лихорадка затрясла его.
"Их было два брата, один был домогатель и ушел из дому, у него ноги свинцовые, живот деревянный – дети не рождаются, сердце не чувствует красоту, плечи сильные, голова математическая, в очках и плешивая, это человек механизации мира, окончательный интеллигент: homo faber.
Другой брат остался при доме, у него ноги резвые, в шерсти, и баба его постоянно рожает детей, а лицо его – как восходящее тесто в деже: вот выскочили два живые глаза, только собрался им ответить своими, а тут, где были глаза, рот выскочил, хочешь в рот сказать, это не рот, а дырка, и это вовсе не лицо, это зад обернулся в лицо – окончательный мужик.
И оба эти брата, как два вагона, идут на меня, и я между ними, как сцепщик, растерялся, еще момент, и они раздавят меня буферами, и поезд пойдет без меня, но этого быть не может, без меня на земле останется одна математика и тесто в деже, все вычисленное и равномерно распределенное на пайки.
Выходит, мой враг – homo faber и его математика. Борьба с математикой? А вот как боролась собака с паровозом: положила хвост на рельсы и лаяла в кусты на корову, паровоз отрезал ей хвост, она кинулась на паровоз, и тот отхватил ей голову.
С этим нельзя по-собачьи бороться, паровоз вещь полезная, и математика необходима, и сам homo faber, начертающий план государства-фабрики (наше время ведь только план), вероятно, тоже необходим: и как же иначе освободиться от чудища, как, не доведя его до абсурда, до счета, до учета научного?
Не про это ли сказано: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя: ибо число это человеческое».
Никакой раскольник со всей своей магией и никакой анархист пироксилиновый не сделает со зверем того, что делает с ним homo faber, превращая фетиш в механизм. Теперь homo faber только ошибся и сдвинул какой-то утес на исток живой воды, и то, что раньше было святое слово ЗЕМЛЯ, теперь стала СУША, и сушу эту надо постоянно размывать, как размывает ее вода океанская. А Я – частица воды океанской, Я – капельно мал, и Я – океански велик, и друг мой лучезарный бог Солнце постоянно творит, и homo faber мой верный слуга".
Но не тут, в этих рассуждениях, а в душе была, несмотря ни на голод, ни на усталость и лихорадку, светлая точка: вот бы теперь идти в класс и рассказывать детям о суше и воде, ее омывающей, упомянуть, что крестят не пылью придорожной, а водою, и знахари говорят: «Вода, матушка, ведь она живая, святая». И хотя бы не класс, а лист бумаги и свет какой-нибудь – записать свои мысли.
Между быстро бегущими облаками показался месяц, осветил сворот на большак, и тут в блестяще накатанной осенней колее учитель заметил очень симпатичный круглый и драгоценный теперь предмет, знал хорошо, как он шелушится, как пахнет, какой у него вкус, но слова в голове его еще не было, и только уж когда он поднял его, слово родилось: луковица. Другая тускло блестела подальше, в двух шагах, там третья, четвертая, пятая, – видно, кто-то ехал и терял лук из худого мешка. Алпатов громко крикнул подождать и, набив луком карманы, стал подходить на скрип телеги вдали. Скоро показалась телега, луковый человек его дожидался, это был Иван Афанасьевич Крыскин, зажиточный огородник из городских мещан, перебравшийся в деревню. Не за услугу, конечно, какая в этом услуга, а просто из жалости к человеку, – и еще учитель, ест без соли, без хлеба поднятый с дороги даже не чищенный лук, – Иван Афанасьевич дал ему довольно большую, – фунта четыре, сообразил Алпатов, – краюшку хлеба и подсадил к себе на телегу.
IX О ХЛЕБЕ ЕДИНОМ
– Дуравей России есть ли страна? – спросил Крыскин.
– Едва ли! – ответил Алпатов.
– И что есть Россия? На одном конце солнце всходит, на другом заходит, и на таком большом пространстве все говорят, что мало земли и люди разуты-раздеты; есть ли на свете страна дуравей России?
– Едва ли! – повторил Алпатов.
– И что есть родина? Вот теперь мне стало ясно, что солдат существует, чтобы его убили или чтобы он убил, и больше в солдате нет ничего: раньше я служил солдатом и был ефрейтором и фельдфебелем, ничего такого не думал, служил и служил для родины и отечества, и вот, оказывается, родины нет и отечества нет.
– Как же это так? – удивился Алпатов.
– А очень просто, у меня есть дочка, тоже учительница и курсистка, Крыскина, слышали?
– Слышал, есть такая учительница.
– Ну, вот, она мне читала, что, где теперь станция Тальцы, раньше был город Талим, в этом городе были стены и башни, через эту местность проходило много всяких народов, захватывали город попеременно и под стенами кости скоплялись разных народов – вот это называется родина, и что в Тальцах живет теперь человек, это называется русский и все вместе русский народ. Ну, как вы думаете, все это есть ценность?