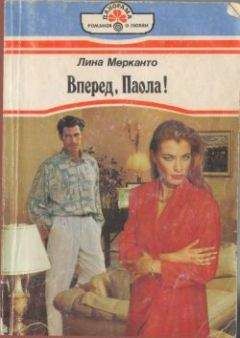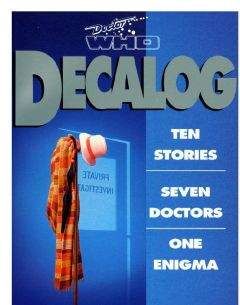Тарковские. Отец и сын в зеркале судьбы - Педиконе Паола
Стихи сатрапа
Москва – Крым – Москва. 1948
Переводческое искусство, которое многие годы кормило поэта, однажды едва не избавило его навсегда от головной боли, а заодно и от всех других болезней.
…Весной 1948 года у Тарковских раздался телефонный звонок.
– Товарищ Тарковский? Арсений Александрович?
– Да, это я.
– Пожалуйста, приготовьтесь, за вами заедет машина.
– А в чем дело?
– Не волнуйтесь, вы все узнаете на месте. Отбой.
Дико забилось сердце. Арсений бросился к жене.
– Таня, это конец!
Татьяна Алексеевна, пытаясь сохранить спокойствие:
– Они не предупреждают, это что-то другое.
Но все-таки стала собирать теплое белье, шерстяные носки, какую-то еду. Арсений лихорадочно упихивал это в портфель. Поминутно он подбегал к окну и выглядывал: не едут ли?
Наконец позвонили в дверь.
Вошел человек в военной форме, капитан. Голос властный, уверенный.
– Не беспокойтесь, мы через два часа вернемся. А вот это (рукой на портфель) оставьте. Возьмите только паспорт.
Машина с откидным верхом. Шофер в кожаном кепи. Покровка, Маросейка, мимо Политехнического, на Старую площадь. У Тарковского отлегло от сердца – значит, везут не на Лубянку. Машина остановилась у здания ЦК. Господи, кому и зачем он здесь нужен?
У входа в священную обитель партии – часовые с автоматами. Бюро пропусков. После оформления пропуска поднялись на четвертый этаж, и капитан повел Тарковского длинными коридорами с табличками на бесчисленных дверях. В конце коридора узкая комната, вроде предбанника. И здесь тоже часовой. Мужчина-секретарь приподнял ладонь:
– Прошу обождать.
Нырнул в огромные дубовые двери и – вернувшись:
– Пожалуйста, проходите.
Большой зал овальной формы. Где-то в глубине – письменный стол, из-за которого встал невысокий человек в очках. После краткого приветствия предложил присесть и сразу приступил к делу.
– Товарищ Тарковский, нам в Союзе писателей рекомендовали вас как ведущего переводчика грузинской поэзии. Как вам известно, в следующем году юбилей товарища Сталина. Есть решение издать на русском языке переводы его стихотворений… Да-да, не удивляйтесь – товарищ Сталин писал в юности стихи! Но – пожертвовал искусством ради революционной борьбы. А стихи прекрасны. И обидно, что нет достойного перевода на русский язык, чтобы их могли прочитать как можно больше людей. Мы поручаем эту творческую и очень ответственную работу вам.
Смертный холод пополз по спине Тарковского. Он понял, что погиб. Если хотя бы одно слово перевода вызовет гнев вождя или просто неудовольствие… Если он сочтет, что переводчик усложнил, упростил, исказил… или ему намекнут на это…
– Простите, – выдохнул Тарковский, – но боюсь, что моих скромных способностей для такой работы не хватит. Ведь это не просто стихи, это…
Человек в очках вежливо, но твердо перебил:
– Разумеется, незаменимых нет, и мы могли бы найти другого переводчика. Но! Мы (пауза) вам (пауза) доверяем (пауза). Вас рекомендовал лично товарищ Фадеев.
Хозяин кабинета нажал кнопку звонка, утопленную в столешнице, и почти тотчас появился секретарь. Он принес папку-портфель из крокодиловой кожи.
– Ознакомьтесь.
Боязливо, словно в пасть зверя, Арсений полез рукой в папку и вынул пачку бумаг. Проглядел мельком: подстрочный перевод, параллельный текст на грузинском, эквиритмический перевод, филологический комментарий, исторический комментарий…
– Здесь все, что потребуется вам для работы, – благосклонно кивнул человек в очках.
Секретарь принес поднос. Темным стеклом мерцала бутылка сухого вина, краснели бутерброды с икрой, на блюдечках лежали конфеты и печенье. Для 1948 года большая роскошь.
– Сколько вам понадобится времени? Тарковский ответил, почти не подумав, наугад:
– Месяцев восемь… девять…
– Нет. Мы даем вам три месяца. К осени переводы должны быть готовы.
Арсений хотел что-то объяснить, но хозяин кабинета смотрел так, что он понял: возражать бесполезно.
Секретарь открыл бутылку, ловко разлил вино. Человек в очках поднял бокал крепкими короткими пальцами:
– Таланты нужно поощрять.
Арсений пил, не чувствуя вкуса вина. К бутербродам и сладостям так и не притронулся.
– Аванс получите в окошке номер четыре, – сказал на прощание хозяин кабинета. – Вас проводят.
И – с ободряющей улыбкой:
– Не забудьте папку.
Ужаснее всего, что опусы Сталина Арсению понравились. Это были вполне достойные стихи, с романтической окраской, с благородными порывами и нежными признаниями… Стихи юноши, влюбленного в мир. Несколько десятков стихотворений. Но работать с ними было невозможно.
Тарковский не мог перевести это так, как переводил он Симона Чиковани или Георгия Леонидзе… Он не мог взлететь душою над бренностью мира. Он думал о том, чьи это стихи. Он должен был помнить о точности перевода – и только, ибо малейшее искажение мысли автора для переводчика могло означать гибель…
И все-таки он начал. В жутком состоянии перевел два с половиной стихотворения, на большее не хватило. В этот момент он окончательно понял бессмысленность подобной работы.
Аванс за переводы выдали большой, можно даже сказать, огромный. И Арсений с Татьяной уехали на юг, к морю. Алеша [15] плескался на мелководье, Татьяна загорала, Арсений целыми днями плавал.
Однажды он заплыл намного дальше обычного. Поднялись волны. Он посмотрел назад и понял, насколько далек берег. Так же далек, как и вся жизнь, оставшаяся там, на берегу. И тогда он поплыл вперед – к горловине бухты и дальше, в открытое море, где виднелись корабли, стоявшие на внешнем рейде.
Он плыл, угадав ритм волн, и они держали его и бережно поднимали и несли на своих упругих дельфиньих спинах. Он плыл долго, очень долго, пока не почувствовал страшную усталость. И он подумал о тишине, которая есть на глубине, о том блаженстве, когда исчезает свобода выбора, и человек становится текучей частью природы, и она выбирает за него, рассеивая его атомы по всему свету.
– Эй, куда торопишься?
Он повернул голову. Метрах в сорока темнела лодка. В ней сидел пожилой грузин с белой тряпкой на голове и не спеша греб. Лодка приблизилась.
– Залезай, – сказал грузин.
– Не хочу, – прошептал он.
– Тогда подожди.
Грузин достал бутылку с пивом, открыл ее и протянул ему. Одной рукой он уцепился за борт, другой взял бутылку и попытался отпить. Лодку качало, и его затягивало под борт, пиво текло по лицу, попадая в рот вместе с соленой водой. Он выпил едва ли половину; остальное пропало зря. Потом грузин помог ему забраться в лодку и, увидев культю, сказал:
– Ай-вай! Зачем плыл? Умирать хотел?
Он ничего не ответил, наслаждаясь твердостью лодочной скамьи.
В Москву Арсений и Татьяна вернулись в конце августа.
Сомнамбулическое забытье овладело им. Как мало он жил на свете! Как много он прожил!
Он ничего не успел разглядеть, кроме того, что положено видеть человеку в его возрасте. Впрочем, нет, он видел еще. он видел ад и его окрестности, но ему повезло больше, чем Данте. В этом аду никто не мучился, все умирали в блаженном неведении смерти. Зато сам он мучился целую вечность. И все-таки она кончилась, эта вечность, хотя и была по-настоящему вечна.
Странно: когда-то он был мальчишкой, ему действительно было и 5, и 8 и даже 12 лет!
Очень странно устроена эта жизнь.
Существуют традиции звездных систем разных дней, месяцев, десятилетий. Звездная система, в которой он прокружился всю жизнь, была, правду сказать, дикой системой, с необъяснимыми осями координат, но он виноват в этом не больше, чем какой-нибудь солдат виноват в том, что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо. Он был солдатом, а не полководцем, и не он размечал битву…