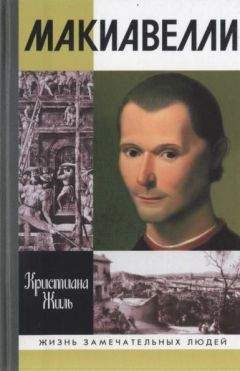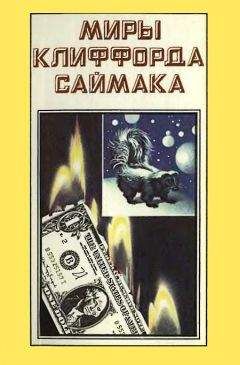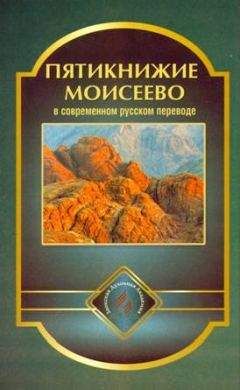Габриэль Марсель - Присутствие и бессмертие. Избранные работы
На какой же срок неожиданно пришедшая в пятницу новость о моем назначении преподавателем в лицей Монпелье парализовала меня в интеллектуальном плане?
Вчера вечером я подумал вот о чем: Ницше, Мальро[43] сочли, что человек, освобождаясь от Бога, тем самым вырастет, что он некоторым образом расширит свое место в бытии. Но все указывает на то, что истина прямо этому противоположна. Это касается и соотношения здешней земной жизни и потусторонней. Безумная иллюзия считать, что земная жизнь неким образом возрастает, как только ей отказывают в ее загробном продолжении. Человек и жизнь вместо того, чтобы при этом расшириться, съеживаются самым жалким образом. И надо понять почему. По сути дела нужно было бы вернуться к фразе Ницше «человек есть нечто такое, что должно быть превзойдено», но показав при этом, что такое утверждение, содержащееся в «Заратустре», истолковано в грубо темпоральном смысле, искажающем его и, в конечном счете, аннулирующем. Эти мысли нужно развить при более благоприятных обстоятельствах[44].
Лион, 2 января 1941 г., вечерМоя идея состоит в том, чтобы прочитать курс лекций в Монпелье о Добре и Зле с точки зрения психологической, моральной и метафизической.
Монпелье, 22 января 1941 г.Я не знаю, будет ли у меня возможность записывать что бы то ни было. Преподавание поглощает все мои силы подобно вампиру, сосущему кровь.
Монпелье, 25 февраля 1941 г.Я хотел бы предпринять исследование права судить, идея которого пришла мне во время размышлений о презрении, возникших в ходе моих занятий в лицее.
Предположим сначала, что смысл слов «право судить» вполне ясен. За мной не будут признавать права – я сам должен буду не признать его за собой – судить тот поступок, контекст и обстоятельства которого мне неизвестны. Кроме того, я приму за принцип свою невозможность встать на место Пьера, относительно которого меня просят вынести суждение. Следовательно, моя невозможность его судить будет законной. Напротив, кажется, что если у меня есть возможность (?) поставить себя на место Пьера, то я в состоянии судить о нем, выносить суждение о его поведении. Так что же такое эта возможность и что такое само это суждение?
Эта возможность слагается из сведений, имеющихся у меня относительно Пьера и ситуации, в которой он находится. Исходя из них, я некоторым образом в состоянии идеальным образом встать на его место: именно таким образом обеспечивается своего рода экспериментальная база, природу которой следует теперь уточнить. Речь идет о том, чтобы в идеальном плане преодолеть внешнюю позицию по отношению к поведению Пьера, что означало бы исключение для меня, например, возможности его осуждения (заметим при этом, что фактически речь идет скорее о его осуждении, чем об одобрении). Я допускаю, что такая позиция – аналогичная той, что бывает тогда, когда сравнивают между собой две фигуры – действительно преодолена.
А теперь предположим, что я признаю, что на месте Пьера я бы действовал так же, как и он; и тогда я бы был склонен заключить, что у меня отсутствуют данные для того, чтобы его осудить. Напротив, если я уверен (?), что в его ситуации я бы вел себя по-другому, то, вероятно, я бы отсюда заключил, что имею право его осуждать.
Но имеет ли подобная аргументация какую-то ценность? (Замечу при этом, что мы никогда не знаем точно, что же это такое – право судить, которое я то присваиваю себе, то отрицаю за собой.)
Самое простое размышление показывает, что подобная аргументация ровным счетом ничего не значит.
1. На его месте я бы действовал так же, как и он. Но такое может быть потому, что я усматриваю в себе те же самые слабости, что и в нем. По сути дела, я пришел к голой констатации, относящейся к возможности. Я бы действовал так же, как и он, но я знаю, что был бы при этом не прав. Другими словами, я сохраняю по отношению к себе свободу суждения (как и по отношению к другому, с которым я идеально себя отождествляю). То, что, будучи помещенным в те же обстоятельства, что и Пьер, я бы почти с полной в том уверенностью действовал как и он, дает для меня достаточное основание оправдать его поступок.
2. На его месте я бы вел себя по-другому, чем он. Размышление мне сразу же показывает, что́ в таком утверждении имеется шаткого: что означает «на его месте?» То, что я не объективирую недолжным образом условия, лишь в абстракции отделимые от того, кто в них находится? Я полагаю или допускаю, что, «будучи на его месте», оставался бы самим собой, каким я себя знаю; но не находится ли именно это как раз под вопросом? Для того, чтобы встать на его место, разве не надо войти во все его прошлое, сделав своей всю траекторию его жизни? Но если я всего этого достигаю, то буду ли я тогда самим собой?
Что отсюда следует? По-видимому, попросту то, что положительный или отрицательный результат идеального опыта, посредством которого я пытаюсь поставить себя на место другого для того, чтобы отдать себе отчет в том, действовал ли бы я в тех же самых обстоятельствах как и он, не должен вмешиваться в мое суждение об этом поступке. Это прежде всего потому, что подобный опыт, в конечном счете, невозможен для практического осуществления, но также и потому, что я как мыслящее существо по самой сущности своей могу принять по отношению к своим собственным поступкам вполне объективную установку.
И тем не менее, что-то в самой моей глубине восстает против этого права, которое я даю моему разуму для того, чтобы судить поступок, совершенный мной или другим, не заботясь о том, чтобы узнать, каким было бы мое собственное поведение, принимая, при случае, несовпадение моих поступков и моих суждений. Что-то во мне упрямо протестует против такого рода права, которое дает себе мой разум, не отдавая себе отчета в том, каково же мое действительное поведение. И как раз смысл этого протеста и следует прояснить. Не могу ли я его истолковать примерно следующим образом: в конце концов, мой разум – это все еще я сам, это не высший суд, который, не ведая почему и каким образом, пришел к тому, чтобы расположиться во мне или в случае надобности выносить решение от моего имени, но без того, чтобы подобное суждение по сути дела что бы то ни было меняло в том, что я делаю или кем я являюсь.
Монпелье, 27 февраля 1941 г.Быть может, все это прояснится, если мы обратимся, например, к тому, что означает собой право жаловаться. Я снял дом у кого-то, кто меня предупредил, что крыша в плохом состоянии и рискует прохудиться при первой непогоде. И в самом деле, комнаты залиты водой, привезенная мною мебель попорчена и т. п. Вы мне скажете, что у меня нет права на жалобу, потому что я был предупрежден. Я принял риск. Владельца дома не в чем упрекнуть. (Возможно, он не прав в том, что не починил крыши своего дома, когда это было можно сделать, но я согласился не возвращаться к этой его возможной ошибке.) Жаловаться означает для меня, возможно, начать дело по возмещению убытков и т. п. Но как раз именно на это я и не имею права. Зато за мною остается право – но имеет ли здесь это слово какой- то ясный смысл? – строго осуждать проявленную владельцем дома небрежность и, возможно, мое собственное легкомыслие. Но такое суждение, по существу, остается исключительно платоническим, оно не затрагивает реального мира, оставаясь чисто идеальным. В некотором смысле оно существует так, как если бы его не было. Действительно, невозможно понять, как за мной можно было бы отрицать право (?) прибегать к такой рефлексии… Произнесенное здесь слово «рефлексия» проясняет ситуацию. Ничто, никто в мире не может отказать мне в праве на размышление, или рефлексию, но именно потому, что это право абсолютно и не подлежит запрету, оно, быть может, и не право вовсе. Действительно, к сущности права относится то, что может быть признано и поддержано извне. Но здесь нет ничего подобного. Все здесь происходит во мне самом в недоступной для вмешательства извне зоне. Это, однако, не означает, что нельзя поставить меня в условия невозможности размышлять.
Замечания, сделанные в декабре 1958 г.Боюсь, что я недооценил эту последнюю оговорку, когда писал эти строки в 1941 г. С тех пор становилось все более и более очевидным, что люди вполне могут практически устранить внутренний мир человека. Различие, указанное выше, тем не менее, сохраняет свою значимость, но она далеко не абсолютна.
Трагедия суждения состоит в том, что, с одной стороны, суждение несет с собой передачу (protension), выражаемую таким образом: «если я сужу верно, то тот, кто судит – это уже не я». Но, с другой стороны, поскольку суждение есть действие, то оно меня ангажирует и я поэтому должен нести за него ответственность.
* * *Записи, следующие ниже, фокусируются на одном главном для меня вопросе, никогда не прекращавшем меня интересовать, для формулировки которого, вероятно, нужно уточнить исходные понятия. Такие феноменологи, как Хайдеггер и Жан-Поль Сартр, а также такой великий поэт, как Райнер Мария Рильке, пытались схватить глубинную внутреннюю связь, связывающую человека с его собственной смертью. В частности, Хайдеггер, переведя в философский план эту тему, столь блистательно развернутую Рильке в его «Записках Мальте Лауридс Бригге», счел возможным определить в качестве инварианта условий человеческого существования то, что он называет бытием-к-смерти, то есть своего рода предопределенность, связывающую каждого из нас с нашей собственной смертью[45]. Жан-Поль Сартр в «Бытие и ничто» подверг эту концепцию критике, которая представляется уместной. Но ни один из этих философов, на мой взгляд, не исследовал вопрос о том, каким же образом смерть любимого существа может на метафизическом уровне затронуть того, кого она опустошает. И поэтому возникает сомнение, что эти мыслители, несмотря на их приверженность к реализму, в достаточной мере обратили свое внимание на связь, соединяющую любящего и любимого, и действительно не остались пленниками разрушительного идеализма, который они теоретически преодолели.