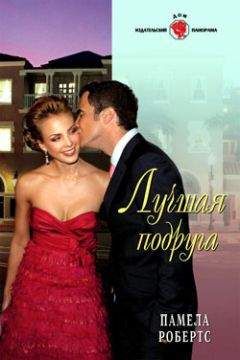Леонид Гроссман - Пушкин
Когда к вечеру, после пиявок, поставленных Далем, пульс больного стал ровнее, реже и мягче, врач-писатель решился опровергнуть единодушный смертный приговор прочих медиков: он осторожно «провозгласил надежду». Этим он доставил последнюю радость Пушкину. На его твердое заявление «мы за тебя надеемся, право, надеемся» поэт крепко пожал ему руку и ответил без возражения: «Ну, спасибо!..» Даль, несомненно, облегчил физическое и душевное состояние умирающего Пушкина. Ночь проходила без мучительных приступов, больной до самой зари не отпускал руки Даля. В пять часов утра Жуковский уехал к себе «почти с надеждою».
Но через два часа, вернувшись на Мойку, он услышал категорический прогноз Арендта: «Пушкин не переживет дня». Пульс катастрофически падал, руки начинали холодеть. В полдень консилиум врачей признал состояние Пушкина совершенно безнадежным. Жуковский написал последний бюллетень для посетителей, наполнявших приемную: «Больной находится в весьма опасном положении». В третьем часу Даль позвал Жуковского, Вяземского, Виельгорского: «Отходит!» Пушкин еще протянул руку товарищу, прося в полубреду поднять его «да выше, выше!» над книгами, над полками: «Ну пойдем же, пожалуйста, да вместе!» Затем лицо его прояснилось, сознание вернулось, он тихо произнес: «Кончена жизнь». Действительно, конечности стыли по плечи, по колени, дыхание замедлялось и стихало…
Освобождение от всех испытаний и мук, выпавших на долю величайшего гения мировой поэзии, наступило 29 января 1837 года незадолго до трех часов пополудни.
4
Смерть Пушкина не разоружила его врагов. Преданный по распоряжению Николая I военному суду на другой же день после дуэли, Пушкин и после смерти оставался подсудимым чрезвычайного трибунала. Только приговор 17 марта прекратил рассмотрение «преступного поступка камер-юнкера Пушкина, подлежавшего равному с подсудимым Геккерном наказанию» (то есть, по букве закона, смертной казни).
Полиция предпринимала энергичные меры для срыва общественного поклонения поэту в связи с его трагической смертью. Лучшие представители литературных и научных кругов, учащейся молодежи, широких слоев учительства, среднего офицерства, мелких служащих, то есть той формирующейся «интеллигенции», которая чтила память о декабристах (а через десять лет объединится в кружках Петрашевского и Спешнева), переживали смерть Пушкина как тяжелый удар и крупнейшее политическое событие. К телу поэта двинулись широкие толпы «простонародья», о чем сохранилось замечательное свидетельство дочери Карамзина: «Женщины, старики, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях приходили поклониться праху любимого народного поэта». Так уже в момент смерти Пушкина его оплакивала городская беднота, словно представляя перед гробом сраженного писателя всю огромную бесправную массу русского народа.
О возбуждении провожавших тело Пушкина записала в своей памятной книжке племянница декабриста С. Г. Волконского А. П. Дурново (с которой Пушкин встречался в 1824 году в Одессе): «На похоронах Пушкина раздавались возгласы: «Где этот иностранец, которого мы готовы растерзать?..»
Боязнь политических демонстраций вызвала распоряжение властей о переносе тела поэта в Конюшенную церковь (вместо адмиралтейской, где было назначено отпевание) и приказе об отправке гроба ночью в Святогорский монастырь для погребения. Одновременно Уваров предпринял ряд энергичных шагов для усмирения возбужденного общественного мнения. Чиновники выносили выговоры авторам хвалебных некрологов и рассылали распоряжения по цензурному ведомству о соблюдении «надлежащей умеренности» в оценках умершего поэта.
«Наши журналы и друзья Пушкина не смеют ничего про него печатать, — сообщил Вяземский в марте 1837 года своим парижским корреспондентам, — с ним точно то, что с Пугачевым, которого память велено было предать забвению». Накануне похорон Никитенко записал в свой дневник: «Уваров и мертвому Пушкину не может простить. Объявленный в афишах для бенефиса Каратыгина «Скупой рыцарь» снят с постановки. Вероятно, опасаются излишнего энтузиазма…»
Исключением из этого предписанного свыше заговора молчания оказалась далекая Одесса: обе издававшиеся здесь газеты на русском и французском языках поместили единственные в тогдашней печати широкие оценки деятельности Пушкина, написанные умно, независимо и с неподдельной скорбью. В них оплакивался «певец в высшей степени народный, одинаково понимавший и сокровеннейшие тайны русского мира и общие черты жизни человечества».
Борьбу с убитым поэтом продолжала и церковь. Инициатор процесса о «Гавриилиаде», петербургский митрополит Серафим, воспротивился отдать ему погребальные почести. Тело Пушкина запрещено было вынести для отпевания в Исаакиевский собор и выполнить торжественное служение под тем предлогом, что смерть от раны на поединке следует приравнивать к самоубийству.
Обер-прокурор святейшего синода Протасов сообщает псковскому архиепископу Нафанаилу, на которого возлагалась ответственность за погребальную церемонию, «чтобы при сем случае не было никакого особенного заявления, никакой встречи, словом, никакой церемонии».
Из всех современников наилучшую оценку петербургской трагедии дал сын историка, Андрей Карамзин. Узнав в Париже о смерти Пушкина, он писал своей матери: «Поздравьте от меня петербургское общество, маменька, оно сработало славное дело. Пошлыми сплетнями, низкой завистью к гению и красоте оно довело драму, им сочиненную, к развязке; поздравьте его, оно стоит того. Бедная Россия! Одна звезда за другою гаснет на твоем пустынном небе, и напрасно смотрим, не зажигается ли заря, на востоке темно… То, что сестра мне пишет о суждениях хорошего общества, высшего круга, гостинной аристократии (черт знает, как эту сволочь назвать!), меня ни мало не удивило; оно выдержало свой характер. Убийца бранит свою жертву — и это должно быть так, это в порядке вещей. Быстро переменялись чувства в душе моей при чтении вашего письма, желчь и досада наполнили ее при известии, что в церковь пускали по билетам только la haute societé[24]. Ее-то зачем? Разве Пушкин принадлежал к ней? С тех пор, как он попал в ее тлетворную атмосферу, — его гению стало душно, он замолк…
Méconnu et deprecié il a vegeté sur ce sol arride et il est tombé victime de la médisance et de la calomnie[25]. Выгнать бы их и впустить рыдающую толпу, и народная душа Пушкина улыбнулась бы свыше».
Так определял социальную среду, окружавшую поэта в момент его смерти, близкий по воззрениям наблюдатель, во многом выражая собственные ощущения Пушкина перед обществом, ставшим его палачом.