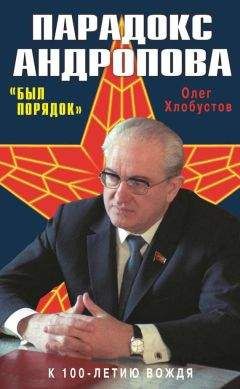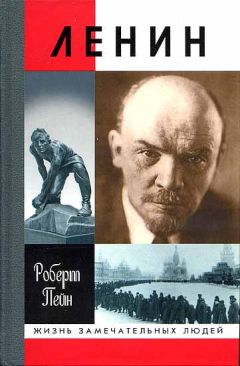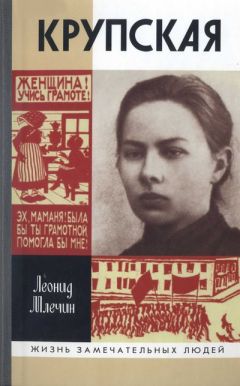Алла Борисова - Олег Борисов. Отзвучья земного
Я хочу понять: как вы носили на себе этот груз обвинений и зависти, как все это вынесли и как при этом жили, любили, творили?
Мне жаловаться не на что: ни с закрытостью, ни со сложным характером вашим я не сталкивался. Напротив, когда я прилетал на съемки, то сразу попадал в ваши объятия – то Борисова, то Тодоровского, – сцена была уже придумана без меня – мне оставалось только ее сделать. И ведь рядом с вами попробуй не сделать! Все получалось само собой, мы будто разговаривали на одном языке – музыкальном, почти что птичьем. А свистели как замечательно!.. Правда, наш режиссер, еще более музыкальный, чем мы, на озвучании всю сцену «пересвистел» и за меня, и за вас – по-своему, по-тодоровски.
Я давно это понял: у людей, открытых музыке, другая речь, другая стать, другое молчание. Тон жизни другой, высший. И душа у них записана в скрипичном ключе, и свои «девять гамм» она всегда за жизнь наберет.
Если бы Олег Иванович захотел, он и сейчас бы со мной спел… все, что мы пели тогда после съемок: и «Госпожу Удачу» («как Пашка Луспекаев!.,»), и Вертинского (обязательно), и оперетку – «Помнишь ли ты…», и Окуджаву – «Две жизни прожить не дано!..». Но может, дано – и две жизни, и более? Хотя вторую такую, как у Борисова, едва ли дано.
Он тогда – вместе с песнями – много рассказывал интересного – только молод я был, глуп и мало что смог запомнить. Это Эккерман за Гёте записывал, а Одоевцева – за Гумилевым, но у них задача была: за-по-ми-нать! А мне в те годы гулять хотелось, общаться. Я понимал: это – Олег Борисов, актер исключительный, редкий, у которого и жест, и наречие совершенно особые. И еще дух, который бы как-нибудь перенять и вобрать… Надеюсь, что-то впитал, перенял – подсознательно, механически, то ли третьим глазом, то ли третьим ухом.
Все-таки кое-что из рассказов помню. Например, про то, как Борисов жег на костре учебники математики, физики. Это его учитель заставил, клятву обязал дать. Он увидел Олега Ивановича в школьной самодеятельности, марширующего, поющего, и так растрогался, что простил ему неуспевание по точным наукам. На экзаменах так все устроил, что Борисов отвечал заранее выученный билет, а потом должен был сжечь «всю эту математику» – да с клятвой, что никогда к этой науке пальцем не притронется. «Только зарплату пересчитывать будешь – на это твоих знаний хватит!» – напутствовал его педагог. Олег Иванович все в точности выполнил и признавался, что все таинственное, непонятное в жизни с этого костра и началось. «Мне всегда, – говорил он, – везло на учителей. Какие учителя попадутся, так и жизнь проживешь!»
У Борисова и по скрипке был какой-то удивительный педагог, он заставлял его сразу концерт Моцарта выучить. Мальчик еще нот не знает, как скрипку держать, а он ему – Моцарта! Такой у него, значит, метод. Олег Иванович этим страстно увлекся – но все война оборвала, и к скрипке он больше не прикасался.
Тогда я ему рассказал, как сам в молодости «музыкой баловался» и что не представляю без нее свою жизнь. Это Олега Ивановича очень порадовало: «Значит, что-то есть свыше… Ты не представляешь, как это важно. Хотя, как вспомню, что я на этой „адской коробке“ играл, так оторопь берет».
И у нас всегда от вашей игры – оторопь, оцепенение, мороз пробегал по коже. И все потому, что «коробка»-то у вас была редкая, коллекционная, борисовская, когда надо адская, а когда и райская. Важный это инструмент для актера, что ни говори, – таинственный, всемогущий, – только актеры не сильно любят на нем заниматься.
За это – если можно – я бы сейчас пригубил. Считайте, что это тост: за вашу музыку, которую никто повторить здесь не может. Потому что нот не оставили. С собой унесли.
Я, как мог, подпевал, даже позволял себе соло, вот только жаль: мало. Мало попели, мало вместе сыграли. Это всегда говорят, когда артист так рано уходит: того не сыграл, этого… А репертуар-то большой остался – пальчики оближешь – и Лир, и Просперо, и Фамусов… да чего только «на старость» не припасено! Только всего не сыграешь. И потом, кто сказал, что вам это непременно нужно сыграть? Я не представляю даже, что бы на этом свете случилось, переиграй вы все главные-переглавные роли классического репертуара? Что бы, например, было с нами – вы об этом подумали? Теперь, правда, многие стремятся все переиграть, всех перегнать – хотя бы количеством.
Нет, в каждой роли мы всегда о себе рассказываем – множко или немножко. И это «множко» уже напрямую от того зависит, как мы живем: богато или небогато. Поэтому Большие (и актеры, и музыканты, и режиссеры) не снимают и не играют много – нельзя же каждый день о себе рассказывать.
Посмотрите, и Даль не сыграл много, и Ефремов. А сегодня и Янковский, и Табаков, и Ваш покорный слуга не спешат создавать антологий. И что приятно – все мы Олеги. У каждого, конечно, свой путь, свои «предлагаемые обстоятельства», но вместе с вами получается внушительное, счастливое и «вещее» имя – не хуже Джека, Роберта и Марлона (царствие ему небесное!..). За это тоже бы надо чуть-чуть… надеюсь, вы не осудите и как-то присоединитесь – хотя я совершенно не представляю, как в вашем положении выпивают, читают стихи и вообще как там живут.
А у нас ведь не только имя общее, но и «именьице». Нет, не то чтобы общее, но «по соседству-с», в десяти минутах ходьбы, в одном дачном кооперативе. Когда вы строили дом (как раз в то время мы и снимались у Тодоровского), я и не помышлял, что судьба потом так сблизит наши «владения».
Как было бы хорошо: наносить друг другу визиты, демонстрировать свои газоны, розы и облепиху. «Посмотрите, О.Е., какими желтыми мотыльками у меня покрылась акация!» – сказали бы вы, О.И., с гордостью, перед тем как пригласить меня в баньку. «Да что там ваша акация, О.И., вот у меня рябина цветет – так цветет! А вся поляна уже в торжественной белизне одуванчиков!» Вы так и говорили: «Я – деревенский! Вот выйду на пенсию и уеду на дачу – книжки читать и мысли записывать. В полной тишине, под петушиную перекличку».
Сегодня в нашей актерской конторе многие пишут, строчат: воспоминания, эссе. Хорошие, плохие. Желтые, серенькие – на любой вкус. Без интервью с цветной фотографией на обложке – в собственной ванне, на собственной вилле – артист уже не представляет своего счастья. Все корректируется, подгоняется (частенько) под то, чтобы выглядеть лучше, достойней и не отстать от «обоймы». Но в вашем дневнике – как и во всей вашей жизни – отсутствуют имидж, грим, поза и «комплекс артиста» с его сегодняшней, слегка подмоченной репутацией. У вас: скромность, чистота профессии и… камертон – тот самый борисовский знак, что всегда отличает вас от других. Читая ваш дневник, проживаешь всю вашу жизнь, с вашими же «знаками препинания», и убеждаешься, что такой точностью и «слуховым аппаратом» владеют сегодня редкие музыканты.