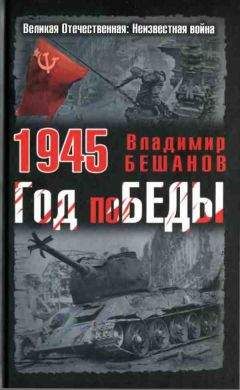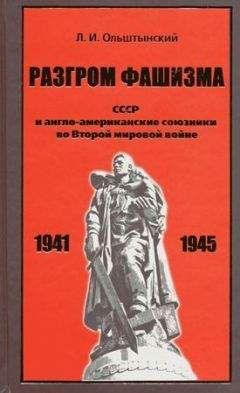Фаина Оржеховская - Шопен
Он проводил дни в своей комнате, далеко от ее дома. Старался никуда не ходить, если не было крайней надобности. Приходили ученики. Потом, отдохнув, он писал родным длинные, полные достоинства письма. Все об одном. Он медленно приходил в себя. Зима была теплая, но сырая. Он не отходил от камина. Немного дремал по вечерам. Со страхом ждал ночи.
Часто из Гильери, где жил Казимир Дюдеван, приходили письма – от Соланж. Она хорошо писала. Желание во что бы то ни стало изгнать из его памяти Аврору, а может быть в какой-то степени и личное участие придавали ее письмам мягкий, родственный оттенок. В них не было и следа той вызывающей грубости, которой отличалась ее речь. И поэтому, читая ее письма, Шопен еще сильнее убеждался в неправоте Авроры и жалел молоденькую девочку, у которой, в сущности, не было ни матери, ни отца. Он видел перед собой не жену вульгарного «мраморщика» – так прозвали скульптора Клезанже, – не разъяренную обитательницу Ногана, а юную Аврору, создание его мечты. Ее муж был всего на четыре года моложе самого Шопена. Но разбитый, больной, может быть умирающий, Фридерик не собирался соперничать с «кентавром». Тот образ, который занимал его мысли, лишь слегка напоминал Соланж… Ей самой он писал часто и подробно.
Он так и не попал в Италию. А Париж убивал его. Но он верил своему врачу-гомеопату, и бывали дни, когда он чувствовал себя сносно. Только все время ему было холодно.
Со своими соотечественниками он теперь редко виделся. Избегал Гжималу, потому что тот слишком много знал и был свидетелем счастливых лет. С огорчением наблюдал перерождение Мицкевича, в речах которого уже не было прежней силы, а были религиозная путаница, мысль о бренности всего земного и глубокая безнадежность. Мистическая экзальтация, пророчества, предвидения мессии, его приверженность «учению» Товианьского, весьма двусмысленной личности, окончательно оттолкнули Шопена. Он с любовью перечитывал сочинения Мицкевича, но не мог теперь видеть его самого.
Варшавские композиторы вроде Новаковского, так и оставшиеся в Париже и не добившиеся никакого успеха, производили жалкое впечатление, как образ выродившейся, изгнанной, запустелой культуры. Время от времени приезжала откуда-нибудь Дельфина Потоцкая. Она все еще была хороша в свои сорок лет, только располнела. И голос у нее звучал все также прекрасно. Когда бы она ни приезжала, всегда давала о себе знать, и Шопену становилось легче в ее присутствии.
Поэт Зыгмунт Красиньский, друг детства Дельфины, был, по-видимому, ее самой сильной и постоянной привязанностью. Она оставила его в Польше – он приводил в порядок одно из ее имений.
– Он трудный человек, – говорила она о Красиньском, – но прелестный! Мы уживаемся с ним. Ведь я как-никак снисходительна к чужим недостаткам!
Она говорила это смеясь. «Очевидно, она не «приносит жертв», – думал Шопен с легкой иронией. – Ну и хорошо! Добродетель не всегда залог счастья!»
В городе было неспокойно. Опять близился взрыв, и отголоски этого взрыва доходили до Шопена. Ученицы стали покидать его – они уезжали из Парижа. Одна уехала не расплатившись. Уроки, обеспечивающие его до сих пор, оказались довольно шатким оплотом. Впервые он задумался над тем, что у него нет никаких сбережений и что следовало бы, пока позволяет здоровье, сделать последнее усилие и заработать немного денег. На издателей нечего было рассчитывать: он продал им все, что написал, на вечные времена. Повторные издания могли только принести богатство этим предприимчивым дельцам, но не облегчить положение Шопена. Издатели давно разбогатели на его сочинениях. Шопен с тревогой помышлял о будущем, даже самом близком.
Две его ученицы, немолодые богатые шотландки, проводившие зимний сезон в Париже, предлагали ему выехать в Англию, уверяя, что он найдет выгодные уроки – там принято хорошо платить за это. Шопен счел это предложение разумным. Не ожидая для себя никакой радости, но лишь для того, чтобы хоть немного поправить свои дела, ему следовало бы отправиться в Лондон. Кроме того, там гораздо спокойнее, чем в Париже.
Он согласился. Ему было все равно, где… продолжать существование. – Ты с ума сошел! – воскликнула графиня Потоцкая, узнав об его решении. – В Англию! Ты что же? Хочешь совсем погубить себя? – Может быть! – отвечал он. – Я и сам хорошенько не знаю, чего я хочу!
Перед отъездом он дал концерт. В малом зале Плейеля он чувствовал себя так, как бывало у Листа, среди друзей. Листа давно уже не было в Париже. Все эти годы он разъезжал по Европе.
Для программы Шопен выбрал одни миниатюры. Не мог бы сыграть даже этюда. Но «Баркароллу» все-таки сыграл! Ее еще не знали в Париже; он любил ее больше, чем все другое.
В ней был выдержан «баркарольный» ритм, все эти покачивания и всплески, однообразие аккомпанемента – одним словом, все старинные свойства «песни на воде». И в то же время она была драматична, если не мрачна. Не по спокойному каналу Венеции плыла гондола, – казалось, она проплывала через черный Стикс, и сам Харон, угрюмый лодочник, нарушил свое безмолвие и запел баркароллу. Он не торопился. Но сильные взмахи весла и однообразный напев, который не становился светлее от легкого, баюкающего ритма, создавали впечатление неотвратимости: Харон плывет к цели. К концу весла взмахивают сильнее, голос становится громче, слышатся уже не всплески, а глухое клокотание воды. Мрак сгущается, но вся баркаролла проникнута торжественностью и силой. Никто не ожидал этой силы от Шопена, от нынешнего Шопена, такого бледного и слабого, что казалось – в нем уже нет крови, нет дыхания. – Это призрак Беллини, – шепнул Тальберг сидящему рядом Берлиозу. Берлиоз повернулся, сверкнул горящим глазом и ничего не сказал.
Но последний, победоносный интервал на кварту вверх, который должен был прозвенеть громко, рождая долгое эхо, Шопен взял чрезвычайно тихо. Это: было неожиданно, и по этому поводу между музыкантами в антракте начался спор. Одни утверждали, что надо было взять этот аккорд фортиссимо, а у бедного артиста просто сил не хватило, потому что он серьезно болен. Удивительно, как он продержался до сих пор! Другие были убеждены, что в последнем пианиссимо заключался какой-то интересный замысел, что Шопен именно так и хотел сыграть. Берлиоз первый высказал это мнение.
– Кто знает – может быть, Шопен хотел доказать нам, что все описанное им в «Баркаролле» был только сон? Или какое-нибудь далекое воспоминание? И вот оно растаяло в тумане. Я убежден, что это именно так!
Войдя за кулисы к Шопену вместе с другими посетителями, Берлиоз застал его на диване, почти без чувств. Шопену действительно сделалось дурно в антракте, он едва добрался до артистической и упал на диван. Теперь он приходил в себя.