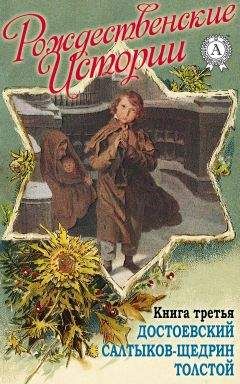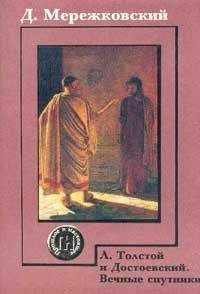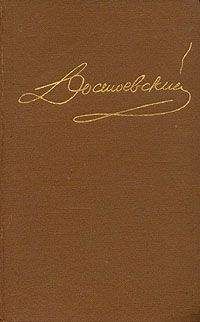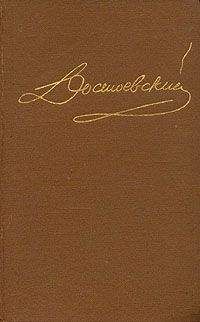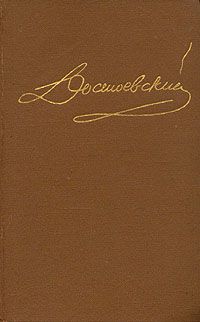Толстой и Достоевский. Братья по совести (СИ) - Ремизов Виталий Борисович
Не это ли письмо из Воронежа натолкнуло Толстого на мысль вновь обратиться к поучениям старца Зосимы и там поискать ответы на мучительные вопросы?
Как бы там ни было, 12 октября Толстой открыл роман Достоевского. Дневниковая запись этого дня гласила:
«Встал поздно. Тяжелый разговор с Софьей Андреевной. Я больше молчал… Занимался поправкой о социализме… После обеда читал Достоевского» (58, 117). Накануне он записал о том, что «любовь к детям, супругам, братьям — это образчик той любви, какая должна и может быть ко всем». И далее: «Надо быть, как лампа, закрытым от внешних влияний — ветра, насекомых и при этом чистым, прозрачным и жарко горящим» (58, 117).
На с. 120 яснополянского экземпляра «Братьев Карамазовых» отчеркнуты слова:
«…я рассудил, что надо говорить действительно тихо, потому что здесь… здесь… могут открыться самые неожиданные уши. Все объясню, сказано: продолжение впредь».
Так Митенька нашептывал Алеше в главе «Исповедь горячего сердца. В стихах». И не похожа ли была ситуация в доме Толстого на ту атмосферу, в которой пребывали герои романа?
18 октября чтение продолжалось. Толстой не переставал удивляться «неряшливости, искусственности, выдуманности» Достоевского. А рядом с этим — дурная погода, «хорошая готовность к смерти», тяжелое впечатление от двух просителей, сознание вины, физическая слабость.
В ночь на 19 октября тяжелый разговор с Софьей Андреевной. Толстой долго не мог заснуть, долго не мог подавить в себе «недоброе чувство». Вдневнике появились мысли об относительности времени и пространства, Боге, которого сознаешь в себе, в других, а стало быть и «в Нем самом». ВТолстом вновь проснулось ощущение смерти: «близка перемена. Хорошо бы прожить последок лучше». В который раз он попытался уговорить себя примириться с Софьей Андреевной. Он говорил ей «про то, что, если есть ненависть хоть к одному человеку, то не может быть истинной любви». Идалее: «Дочитал, пробегал 1-й том Карамазовых. Много есть хорошего, но так нескладно. Великий инквизитор и прощание Зосима» (58, 121).
Читая в этот раз роман, он выделил для себя самое сокровенное в поучениях старца Зосимы.
В главе о господах и слугах он отчеркнул близкую ему мысль:
«…чем беднее и ниже человек наш русский, тем и более в нем сей благолепной правды заметно, ибо богатые из них кулаки и мироеды во множестве уже развращены, и много, много тут от нерадения и несмотрения нашего вышло! Но спасет Бог людей своих, ибо велика Россия смирением своим» (с. 352).
Толстой — мятежная душа, считал «спокойствие душевной подлостью», писал свои сочинения «огненными штрихами», но столь же много он отдал сил тому, чтобы воспитать в себе и в своих героях дух смирения! Смирения не рабского, не холопского, а того, которое жило в Христе, когда он в трагическую минуту предательства возвратил меч Петра в ножны, когда вторил Пилату: «Не я сказал. Ты сказал», когда он, могущий спасти себя, пошел на муки и, умирая на кресте, не просил о пощаде. Сколько в художественном мире Толстого гордых и умных героев, ставших на путь христианского смирения, — князь Андрей, отец Сергий, Нехлюдов, старец Федор Кузьмич. Толстой понимал несовершенство мира, слабость людскую и потому избрал для себя единственно возможный путь не просто совершенствования, а нравственного самоусовершенствования. Через познание себя самого он открывал в другом человеке родственную душу, через любовь к ближнему прикасался к познанию Бога, думал о единении всех людей и народов, глубоко страдал при виде того, как люди ненавидят друг друга, враждуют между собой, съедаемы завистью.
В главе «Таинственный посетитель» он задержал свой взгляд на мысли о самоотчуждении человека:
«Ибо все-то в наш век разделились на единицы, всякий уединяется в свою нору, всякий от другого отдаляется, прячется и, что имеет, прячет и кончается тем, что сам от людей отталкивается и сам людей от себя отталкивает. Копит уединенно богатство и думает: сколь силен я теперь и сколь обеспечен, а и не знает безумный, что чем более копит, тем более погружается в самоубийственное бессилие, ибо привык надеяться на себя одного и от целого отделился единицей, приучил свою душу не верить в людскую помощь, в людей и в человечество…» (с. 338).
Когда-то в юности Толстой мечтал быть самым богатым, самым великим, самым счастливым человеком на этой земле. Но от богатства отказался, славой тяготился, а быть счастливым среди людей, страдающих от бедности и униженности, не смог.
Ему был близок и понятен герой Достоевского — старец Зосима, близок своими размышлениями о месте человека в мироздании, братском отношении к людям, сущности молитвы, о вере до конца в «мире живой любви».
Гимном прозвучали отчеркнутые Толстым в тексте романа слова Зосимы о вселенском, божественном чувстве любви:
«Раз, в бесконечном бытии, не измеримом ни временем, ни пространством, дана была некоему духовном существу, появлением его на земле, способность сказать: «Я есмь, и я люблю». Раз, только раз, дано было ему мгновение любви деятельной живой, а для того дана была земная жизнь, а с нею времена и сроки, и что же: отвергло сие счастливое существо дар бесценный, не оценило его, но возлюбило, взглянуло насмешливо и осталось бесчувственным» (с. 359).
Трагическим аккордом начинался этот гимн: «Отцы и учители, мыслю: «Что есть ад?» Рассуждаю так: «Страдание о том, что нельзя уже более любить»». Толстой не только отчеркнул весь этот абзац, но и отметил его знаком NB (отметь: хорошо). Он сделал эту пометку за 9 дней до ухода из Ясной Поляны. Вечером, 19 октября, он сказал Софье Андреевне: «Сегодня я понял то, за что любят Достоевского, у него есть прекрасные мысли».
За день до ухода — 26 октября — Толстой видел сон: «Грушенька, роман, будто бы, Н. Н. Страхова. Чудный сюжет» (58, 123). В этот же день он заехал к М. А. Шмидт. Она была его другом, единомышленником, человеком глубоким и тонко чувствующим чужое горе.
«Он, — вспоминала Е. Е. Горбунова, — долго сидел у нее и, уходя, сказал, что он решил уйти.
— Это слабость, Лев Николаевич, — оказала она, — это пройдет, потерпите.
— Слабость, — подтвердил Лев Николаевич. — Только это уже не пройдет» [258].
19 октября 1910 г. Толстой записал в своем дневнике: «…если есть ненависть хоть к одному человеку, то не может быть истинной любви». В этот же день он выделил для себя слова Зосимы об аде и страдании, когда нельзя больше любить в мире этом.
Толстой признавался, что он ничего не понимает в Боге, который есть сам в себе. Для него это было рассуждением излишним и даже «вредным». «Но не то с Богом-любовью, — писал он за год до ухода. — Этого я наверно знаю. Он для меня все, и объяснение и цель моей жизни» (57, 177). Кстати, в этот же день, когда сделана эта запись, Толстой «читал немного Достоевского».
Милосердие, Любовь, Сострадание — это то, ради чего жили, страдали и совершали открытия два великих человека. Они знали, как непросто пронести веру через «горнило сомнений», но всегда были искренне в своем поиске истины. Им были ведомы муки совести и очищающая сила сострадания. Их огненное слово было обращено к современникам, оно взывало к стыду за совершаемые злодеяния, к пробуждению совести. Оно несло в себе правду о радостях и горестях жизни, о неизбежности смерти и духовном бессмертии, но главное — открывало путь к духовному преображению, когда в человека входил Божественный свет Христа и человек обретал смысл жизни, отдаваясь бескорыстному служению Богу и ближнему.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Афиша совместной выставки «Федор Достоевский и Лев Толстой», организованной тремя музеями: Литературно-мемориальным музеем Ф. М. Достоевского, Государственным музеем Л. Н. Толстого (Москва), Музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в Санкт-Петербурге в связи со 100-летием со дня смерти Льва Толстого. 11 ноября — 31 декабря 2010 г.