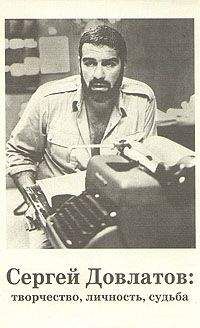Митрополит Евлогий Георгиевский - Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита Евлогия(Георгиевского), изложенные по его рассказам Т.Манухиной
Протодиакон о. Тихомиров, из диаконов Александро-Невской Лавры, в молодости обладал могучим голосом и некоторое время служил в церкви Зимнего дворца. Потом его перевели в Рим, а оттуда — в Париж. Заграничная жизнь наложила на него отпечаток внешней европейской культуры.
Псаломщиком при Парижском храме долгие годы был М.М.Фирсов. Чистенький старичок, одетый не без франтовства, старомодно-учтивый, полный сознания своего достоинства. Сослуживцы прозвали его "генералом".
Второй псаломщик Леонович, кандидат богословия, был большой скандалист, и я решил его уволить. Его с трудом удалось выселить. Полиция вынесла вещи из его помещения во время его отсутствия.
Третий псаломщик Стасиневич, как я уже сказал, последовал за о. Петром Извольским в Брюссель; образовалась вакансия, на которую я наметил диакона Вдовенко. Ко мне пришел однорукий священник о. Соколовский и заявил протест, почему я назначаю о. Вдовенко, а не его… "Это всегда так, — грубо и дерзко сказал он, — мужика-келейника предпочитают священнику…"
Диакон Вдовенко, который сопровождал меня всюду с первых дней моего назначения Управляющим Западноевропейской епархией, человек честный, преданный, трудолюбивый, бывал неуравновешен, даже грубоват. Впоследствии у него возникали недоразумения с сестрами парижского сестричества — и по самым ничтожным поводам. Так, например, слышу как-то раз в прихожей крик, гвалт… В чем дело? Смотрю, впереди Вдовенко с золоченым Евангелием в руках, за ним гурьбой сестры… "Засыпали порошком все украшения?.." — негодует Вдовенко. Сестры волнуются: "Защитите нас от него! Он ничего не понимает… ему бы сапоги чистить!"
Не могу не упомянуть и консьержку (привратницу) церковной усадьбы Надежду Антоновну Звонилкину. Это маленькая, быстрая пожилая женщина, энергичная, властная и не всегда сдержанная на слово. Впоследствии, когда я поселился в своей парижской квартире, я оценил всю ее преданность своему делу и все заботы обо мне. Она зорко следила за тем, кто ко мне приходит, и, если посетители были незнакомые и казались ей подозрительными, она подглядывала в щелочку, прислушивалась, а когда визитеры, по ее мнению, чрезмерно долго засиживались, стучала в дверь: "Владыка, вам надо, кажется, куда-то ехать?.."
Регентом церковного хора был Кибальчич. Пел хор неплохо, но певчие, французы, произносили славянские слова с французским акцентом.
В этот мой приезд в Париж (сентябрь-октябрь 1922 г.) я ближе сошелся с нашим посольством. В.А.Маклакова я знал раньше, а с М.Н.Гирсом познакомился только теперь. Он мне понравился. В его лице я приобрел дружескую поддержку. По ходатайству представителей эмигрантской общественности профессора М.В.Бернацкого, И.П.Демидова и д-ра И.И.Манухина М.Н.Тирс ассигновал мне 2000 франков ежемесячной субсидии на содержание Епархиального управления — образовался необходимый основной фонд. В лице М.Н.Тирса я встретил энергичного противника соглашения с Карловацким Синодом, он меня уговаривал вести свою линию, не соглашаясь ни на какие уступки.
Наладив парижскую епархиальную организацию, я выехал в сопровождении Т.А.Аметистова в Берлин. Необходимо было ликвидировать там все дела.
Расставаться с обитателями "Alexanderheim’a" было тяжело. Мы сжились, свыклись…
Аметистов принял опись дел, счетов и прочие материалы епархиального делопроизводства. С секретарем Дерюгиным [120], которого я уволил, возник конфликт. Он моего постановления признавать не пожелал, требовал обоснованной мотивировки, готов был даже подать в суд в том случае, если бы Управление его уволило, не уплатив ему жалования за несколько месяцев вперед.
Я распрощался с паствой после Литургии. Архимандрита Тихона, по-видимому, мой отъезд не печалил: пребывание епархиального архиерея его стесняло, а ему хотелось развернуться…
Я приехал в Париж под Рождество. Начался новый период моего служения — парижский.
21. МИТРОПОЛИТ ПРАВОСЛАВНОЙ РУССКОЙ ЦЕРКВИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
1.Приход кафедральной Александро-Невской церкви
Первые мои впечатления по приезде в Париж на постоянное жительство были отрадные. Чудесный большой храм, образованное, достойное уважения духовенство, толпы молящихся. Наплыв богомольцев был так велик, что храм не вмещал всех собравшихся, была давка; на церковном дворе, даже на улице перед церковью — всюду толпился народ. Кого-кого только тут не было! Люди всех состояний, возрастов и профессий: бывшие сановники и придворные, военные в затасканных френчах, интеллигенция, дамы, казаки, цыганки, старухи, дети… В холод, в непогоду — все такие же огромные толпы. Я, бывало, беспокоюсь, что люди мокнут под дождем, а один прихожанин иронически отозвался о толпившихся на дворе: "Дворяне" посудачить приходят…" В этих словах была доля правды, поскольку храм на рю Дарю стал в полном смысле слова живым центром эмигрантской жизни. В церковь шли не только помолиться, но и встретиться в церковной ограде со знакомыми, обменяться новостями, поговорить о политике, завязать какие-нибудь деловые связи. Однако главным побуждением была потребность помолиться. В народной толпе чувствовался большой духовный подъем. Скорбные, озлобленные, измученные люди тянулись к храму как к единственному просвету среди мрака эмигрантского существования. Они несли сюда свои печали, упования и молитвы; тут забывали свое горе, обретали надежду на какое-то лучшее будущее. В первые годы религиозное усердие эмиграции было трогательное. Несмотря на горечь и ужас жизни, веяло религиозной весной, не было в людях той безнадежности, того уныния, которые овладели душами впоследствии.
Духовный подъем церковного народа мне передавался. Я входил в жизнь моей паствы, сливался с нею, стали завязываться знакомства, возникали личные отношения. Но очень скоро я понял, что организовать церковноприходскую жизнь мне будет нелегко. Богомольцев тысячи, но все люди случайные, не объединенные в единую семью. Я чувствовал себя потонувшим в этой неорганизованной толпе и, должен сознаться, поначалу ею не овладел. На кого мог я опереться? На духовенство? Оно было просвещенное, достойное, но никогда не имевшее большого прихода. Контакта с нахлынувшей эмигрантской массой у него и быть не могло. Два мира, две психологии… Духовенству надлежало понять, чем эмиграция жила, а этого понимания ожидать от него было невозможно. Эмиграция — новое, невиданное явление — внесла в тихую церковную усадьбу на рю Дарю суету, беспорядок, непонятные притязания… и духовенство, не понимая своих прихожан, неспособное их объединить, ограничивалось добросовестным исполнением церковных служб и треб. Низшие клирики тем менее разбирались в том, что происходило.