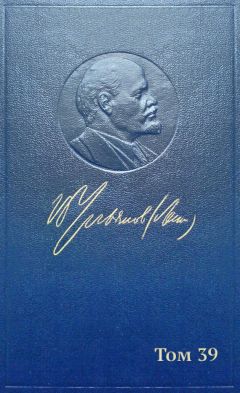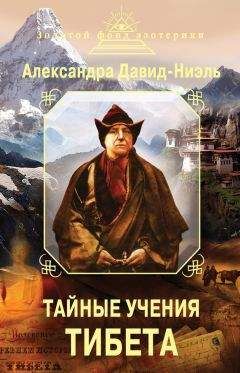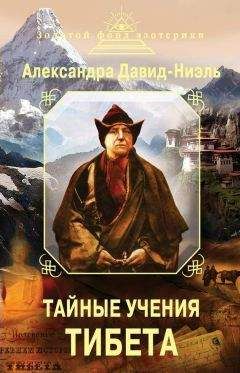Давид Ортенберг - Июнь-декабрь сорок первого
29 декабря
Почти каждый день публикуются сообщения Совинформбюро о новых и новых населенных пунктах, отбитых у противника. Одни из них, скажем, Одоев, Наро-Фоминск, Белев, Тим, обозначены на картах кружочками, другие помельче - еле заметными точками. Но каждый из них нам дорог. Это освобожденная родная земля, вызволенные из фашистской неволи советские люди, еще один шаг к Победе.
Высокий класс оперативности показали в эти дни наши корреспонденты. Но некоторые из них настолько "замотались", что стали допускать досадные промахи.
Об освобождении Белева нам стало известно поздно вечером. И хоть мы знали, что где-то там находятся Симонов и Кнорринг, получить от них какие-то материалы о Белеве именно в тот вечер никто не рассчитывал. Вдруг появляется неведомый нам летчик и вручает пакет с собственноручной надписью Кнорринга: "Город Белев, освобожденный частями Красной Армии. Снимок сделан с самолета, пилотируемого летчиком Туловым". Восторгам нашим и похвалам Кноррингу не было, как говорится, ни конца ни края. А чуть позже выяснилось, что Кнорринг, увидев этот свой снимок в "Красной звезде", в отчаянии схватился за голову: снят был с воздуха не Белев, а Одоев, куда он летал вместе с Симоновым за три дня до того. Хотели мы было дать поправку, но сравнили белевскую пленку с одоевской и отказались от этого: и в Одоеве и в Белеве разрушения были очень схожими.
Ох уж этот Одоев! Запомнился он мне.
В романе Симонова "Так называемая личная жизнь" есть очень впечатляющая сценка размолвки с редактором главного героя этого произведения Лопатина по возвращении из только что освобожденного Одоева. Позволю себе воспроизвести ее здесь с некоторыми несущественными в данном случае сокращениями:
"Не заходя к редактору, чтобы тот не сбил его, Лопатин заперся и к вечеру написал очерк "В освобожденном городе"...
- Я уже знаю, что ты вернулся, - сказал редактор, когда Лопатин с очерком в руках вошел в его кабинет, - но приказал тебя не отрывать. Есть одна важная новость для тебя, но давай сначала прочтем.
Фразу насчет новости Лопатин пропустил мимо ушей, - наверное, еще какая-нибудь поездка, которую редактор считает особенно интересной - и, став у него за плечом, стал следить, как тот читает очерк.
Редактор поставил сначала одну птичку, потом вторую, потом третью, жирную, - против слова "испуг". Поставил, повернулся к Лопатину, словно желая спросить его: что же это такое? Но раздумал и уже быстро, не ставя никаких птичек, дочитал очерк до конца.
- Хорошенькая теория, - сказал он, бросив на стол очерк, и быстро зашагал по комнате. - Большой подарок немцам сделал бы, напечатав твое творение...
- Почему подарок?..
- А потому, - сказал редактор, - что немцы возьмут очерк и перепечатают во всех своих вонючих оккупационных листках, мол, не бойтесь, дорогие оккупированные граждане, милости просим, служите у нас, даже если потом опять попадете в руки Советской власти, все равно вам за это ничего не будет... Ты только подумай, к чему ты, по сути, призываешь в своей статье...
- К тому, чтобы всех не стригли под одну гребенку, только и всего.
- А гребенка тут и должна быть только одна - служил у немцев или не служил! Время военное, все эти "с одной стороны, с другой стороны" надо оставить, по крайней мере до победы.
- Допустим, - упрямо сказал Лопатин, - а все-таки как надо было поступать этому инженеру-коммунальнику, о котором я пишу?
- Не знаю, - отрывисто сказал редактор. - Не надо было оставаться или не надо было на работу являться... Самому думать, как поступать. А раз остался, пусть теперь расхлебывает кашу...
- Что значит "пусть расхлебывает"? Что же, эти люди виноваты, что ли, что мы отступили почти до Москвы? Мы отступили, а они пусть расхлебывают?
- Надо было отступать вместе с армией, - отрезал редактор, злясь от сознания собственной неправоты.
- Матвей...
- Что Матвей?
- А то, что у тебя пять корреспондентов в окружении остались, не сумели выйти, а ты хочешь, чтобы эта женщина с грудным ребенком и матерью-инвалидкой вместе с войсками ушла?! Ты хочешь, чтобы от границы до Москвы все успели на восток уйти, когда немцы летом танками по сорок километров в сутки перли... Кому ты говоришь? И ты, и я это своими глазами видели! А теперь пусть "расхлебывают"...
- Разговор твой не ко времени. Увидел пять взятых городов и расчувствовался, а мы, между прочим, не Берлин берем, а под Москвой еще сидим, если глядеть правде в глаза. Рано разнюниваться! Сейчас без железной руки не только то, что отдали, не вернем, но и то, что вернули, между пальцами упустим... В общем, хватит! - сказал редактор. - Совесть надо иметь! Когда вам от меня достается - это вы знаете! А что мне за вас бывает - это одна моя шея знает! - Он сердито хлопнул себя по шее. Забирай к чертовой матери свой очерк и считай, что у нас не было этого разговора. - Редактор снова схватил очерк со стола и на этот раз, почти скомкав его, сунул Лопатину. - Забирай, иди и высыпайся, завтра под Калугу поедешь!.."
Эта сцена воспроизведена Симоновым в романе, можно сказать, с натуры. Только заменены имена редактора и корреспондента. Такой или почти такой разговор произошел между мною и Симоновым.
В Одоеве судьба свела Симонова с двумя, по всем признакам, честными советскими людьми: инженером-коммунальником и бывшей машинисткой райисполкома. Первый, по требованию оккупационных властей, восстановил что-то в городском коммунальном хозяйстве, отчего выиграли не столько оккупанты, сколько все население города. А вторая, чтобы спасти от голодной смерти троих своих детей, вынуждена была поступить на должность машинистки в городской магистрат. Их поставили потом в один ряд с изменниками Родины. Симонов усмотрел в этом несправедливость и восстал против нее в своем очерке, который так и назывался "В освобожденном городе".
Должен признать теперь, что Симонов в общем-то был прав, он смотрел вперед. Много, очень много городов и сел нам предстояло освобождать, и нельзя было ни тогда, ни позже уйти от проблемы, которую поднял писатель. Не могу сказать, что я безучастно отнесся к ней. Но такое выступление военной газеты едва ли было бы понято и поддержано тогда. Гораздо вероятнее то, что оно было бы осуждено. И дело не в том, что я опасался неприятностей. Всякий редактор, если он хочет быть редактором в высоком партийном понимании этого слова, не должен бояться, как у нас говорили, "ходить на острие ножа", ставить жгучие вопросы. Я остерегался другого болезненного восприятия такой постановки вопроса в войсках, борющихся с врагом не на живот, а на смерть, охваченных священной ненавистью к нему и непримиримостью к тем, кто вольно или невольно служит фашистам...