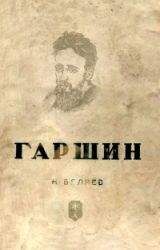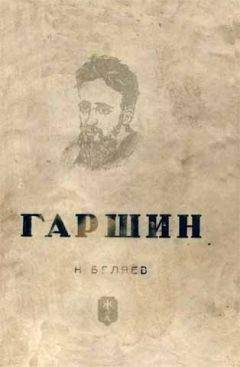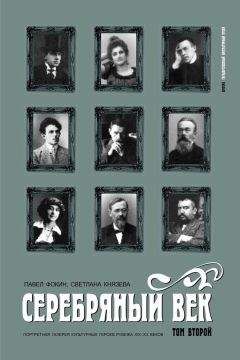Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 3. С-Я
«[Станиславский] искал в Николае Ефимовиче истолкователя своего учения о театре, об актере. Тот с истинной и глубокой готовностью откликнулся, и они одно время встречались каждый день и, сидя на каменном балконе виллы, работали. Константин Сергеевич надеялся, что Николай Ефимович сможет найти общепонятную форму его мыслям, сможет, не исказив, выразить самое главное, самое сокровенное, что хаотически клубилось в его голове, но при попытке выразить словами превращалось в вульгарность, трюизмы, пошлость (так он говорил сам Николаю Ефимовичу) или оставалось сумбуром. Но, видимо, Николай Ефимович был слишком популяризаторски прямолинеен для поэтического и романтического изложения строя мыслей Константина Сергеевича того времени. Его переложение и обработка их бесед угнетали Константина Сергеевича своей рационалистичностью, сухостью и поверхностностью. Мой отец [В. И. Качалов. – Сост.] говорил, что Эфрос слишком честен, что он настолько высоко чтит Константина Сергеевича, что не способен на ложь перед ним, на приспособление к нему и главное – лесть, к которой Константин Сергеевич уже был приучен своими адептами.
Эфрос добивался точности, ясности до конца, ответственности за каждое положение, просвечивания мысли до самых ее глубин. И когда в глубине ее иногда никакого ценного зерна не оказывалось, это огорчало и угнетало Константина Сергеевича и приводило или к сознанию своей творческой немощи, или (и это гораздо чаще) к выводу о невосприимчивости Эфроса.
В Эфросе не было ни на атом евангельской Марии – он не мог сидеть у ног учителя и внимать с раскрытой душой, – слышанное он должен был немедленно изложить в понятных читателю словах; все, что он слышал, он тотчас же видел в типографских знаках на странице… Не было в нем и Марфы (он не интересовался организацией философского и учительского быта и блага Константина Сергеевича), он не мог, как впоследствии другие, взять общепонятную часть услышанного, переработать ее, уснастить и изложить читателям под видом целого и основного – этого ему не позволяла совесть, уважение и любовь к Константину Сергеевичу.
…Ну как мог просто умный и в яви мыслящий Эфрос постичь и воплотить в логике слов, состоящих из тридцати трех букв алфавита, то, что могло выразиться только интонацией, вздохом, жестом, улыбкой, блеском и потуханием зрачков… Это все равно как если бы рассказывать живопись и попытаться, описывая картину гениального мастера, сделать из этого описания учебник живописи» (В. Шверубович. О старом Художественном театре).
«Я всегда считал, что Эфрос – идеальный критик, потому что он был идеальным отзывчивым зрителем, свободным в суждениях, лишенным малейшей предвзятости, но со строгим, требовательным вкусом и даром сценического анализа. Он воспринимал театр как радость. Он приходил в театр с ожиданием успеха, а не провала, с надеждой и интересом, а не безразличием, исключив „презумпцию виновности“ театра» (П. Марков. Книга воспоминаний).
Ю
ЮНГЕР Владимир Александрович
Поэт, художник, педагог. Член первого «Цеха поэтов». Стихотворный сборник «Песни полей и комнат» (Пг., 1914).
«Оба брата Юнгера выделялись своей наружностью и из поэтов, и из студентов: оба носили длиннейшие крахмальные воротнички, очень черные (незасаленные т. е.) тужурки и вычищенные ботинки. Кроме того, волосы их были очень недлинные» (В. Пяст. Встречи).
«Имена Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Блока я знаю с тех пор, как помню себя. Отец читал мне пушкинские сказки, стихи Лермонтова, „Вечера на хуторе близ Диканьки“. Блока мне не читали, но отец преклонялся перед ним и стихи его звучали в доме постоянно.
…У отца бывали поэты. Помню Есенина, Клюева, Корнея Ивановича Чуковского, Анну Андреевну Ахматову. Он любил, когда я заходила в его маленький кабинет и, сидя в углу, слушала. Я ничего не понимала, но поэтическая речь завораживала меня. Мне нравились эти люди. Они казались мне таинственными и прекрасными. Но лучше всех был мой отец – прекраснейший из прекрасных.
…Очевидно, он был одарен во всех областях искусства, но ни одна из них не стала его профессией. Он был педагогом, и был им, я думаю, не только по профессии. Ученики его обожали.
…Отец был энергичный, подвижный. Когда я поджидала его приезда из города на дачу и видела, как он входил в калитку и летящей походкой шел мне навстречу, у меня замирало сердце. Как сейчас вижу его – в белых брюках, в синем пиджаке, в рубашке „апаш“ с открытым воротом. Он брал меня на обе руки, бежал со мной по дорожке сада, приподнимая над землей. Это называлось „на крыльях урагана“. Я любила смотреть, как, играя в теннис, он летал по корту.
…В конце своей жизни отец страстно увлекся рисованием. В особенности портретами. Он рисовал везде и всех. В трамваях, в поездах – неизвестных ему пассажиров. Стоило ему где-нибудь присесть, сейчас же из кармана вынимался маленький альбом и карандаш. Рисовал всех знакомых, без конца заставлял позировать нас с мамой. Его портрет Есенина, сангиной, был опубликован… Последние два года он занимался рисунком и живописью у Шухаева и Яковлева. Шухаев высоко отзывался о его способностях и удивлялся быстроте его успехов.
…Думаю, если бы он прожил дольше, он стал бы настоящим художником. Очень уж настойчиво и одержимо он отдавался этому занятию. Нашел под конец ту область искусства, которой мог бы посвятить себя целиком» (Е. Юнгер. Отец).
ЮОН Константин Федорович
Живописец, театральный художник, график, педагог. Член объединения «Мир искусства», один из организаторов «Союза русских художников». Живописные полотна «Троицкая Лавра зимой» (1910), «Весенний солнечный день» (1910), «Мартовское солнце» (1915) и др.
«Заставил… говорить о себе молодой московский пейзажист Юон. Я не скажу, что бы он особенно пленил меня, он все-таки слишком „московский пейзажист“, но нынешние его работы лучше прежних, в нем, действительно, проявилась любовь к поэзии городской будничной жизни; площади, переулки, тройки, телеги – все это живет и движется, все удачно подмечено и схвачено» (С. Дягилев. Выставка «Союза русских художников» в Москве).
«В Константине Федоровиче было что-то крепкое, очень настоящее, роднящее его с большими мастерами Ренессанса, создавшими школу, передающими свое мастерство многочисленным наследникам таланта.
Большой, спокойный, свежий, с темными живыми глазами, с колоссальной выдержкой в словах, жестах, поправках самых плохих работ.