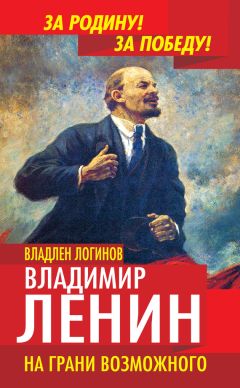Владлен Логинов - Владимир Ленин. Выбор пути: Биография.
В конце октября в Мюнхен перебралась Вера Ивановна Засулич, из России для работы секретарем редакции прибыла Инна Смидович-Леман, и Потресов все-таки уехал… Вернулся он лишь 11 (24) декабря, как раз в тот день, когда первый номер «Искры» вышел в свет31. Мартову удалось выбраться за границу еще позднее, в марте 1901 года. Так что из всей «святой троицы», как называл их Аксельрод, Ульянов оказался в это время в Мюнхене один.
«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
Эти полтора месяца до выхода «Искры» стали для Ульянова сплошной нервотрепкой. Очень подвели немецкие социал-демократы, твердо обещавшие дать свою типографию, но нещадно тянувшие с решением данного вопроса. «Нервы развинтились препорядочно, — писал Владимир Ильич Аксельроду, — главное, эта томительная неопределенность, кормят эти черти немцы завтраками, — ах! я бы их!..»1 Лишь в ноябре договорились о печатании «Искры» в Лейпциге в типографии Дитца, и только 27 ноября приступили к набору.
Уйму времени отнимала редактура и переписка по этому поводу. Все маститые авторы — «отцы-основатели» — норовили дать в газету статьи журнального объема. К сокращениям и правке относились крайне болезненно. А уж замечаний по каждой чужой заметке было хоть отбавляй. О сроках и говорить нечего — тот же Аксельрод прислал свою обширную статью для первого номера «Искры» буквально в самый последний момент.
Сам Павел Борисович 17 ноября написал Ульянову: «При всем моем интересе даже к частностям положения дел, я слишком дорожу Вашим и других коллег временем, чтобы претендовать на получение подробных вестей. По-моему, излишняя роскошь даже посылать все статьи и корреспонденции, хотя, чтобы предупредить недоразумение — я очень рад получать и прочитывать их»2.
Формулировка, как видим, была достаточно дипломатичной, и дабы «предупредить недоразумение», приходилось учитывать каждое замечание. Впрочем, не всегда.
Георгий Валентинович попросил, например, в статье Ульянова о расколе в заграничном «Союзе» (в том месте, где говорилось о нападках «Рабочего дела» на Плеханова) убрать слово «обвинение»: «Наши враги из «Рабочего дела», — пояснил Плеханов, — могут лгать на нас и сплетничать о нас. Но обвинять, а следовательно, и судить нас они не могут: русского революционера, как средневекового рыцаря, могут судить только его перы (равные), а нашими перами не могут быть люди, разделяющие идеи г. Г[ришина-Копельзона]». Из этой же статьи он попросил выбросить и «слова насчет заслуг «Рабочего дела», ибо кроме клеветы на Плеханова в этой газете якобы печатались лишь статьи «для глупых интеллигентов…»3.
Насчет «неподсудности» Ульянов отвечать не стал. Он просто оставил слово «обвинение». А по поводу второго замечания написал Аксельроду: «Я внес желаемые Вами исправления, но не мог только выкинуть вовсе слова о заслугах «Рабочего дела», — мне кажется, что было бы несправедливо по отношению к противнику, имеющему не только проступки перед социал-демократией»4.
В ходе переписки постепенно выяснялось, что, согласившись на ужесточение «Заявления редакции «Искры» и выбросив из него места, которые показались Плеханову слишком «оппортунистичными», Ульянов не собирался уступать в самом принципе — в отказе от «крайностей» в полемике.
Надо сказать, что жесткость идейных споров была вообще характерной чертой российской демократической публицистики. В оправдание этой жесткости еще Белинский писал: «Гадки и пошлы ссоры личные, но борьба за понятия — дело святое, и горе тому, кто не боролся». Когда Плеханов написал книгу о Михайловском, он, например, решил предпослать ей эпиграф из Глеба Успенского: «А пора бы тебе, старичок, помирать». И Потресову стоило немалого труда «убедить Плеханова отказаться от этой безвкусицы»5.
Даже «легальные марксисты» писали в аналогичной стилистике. Такой знаток творчества Струве, как Ричард Пайпс, заметил, что в ту пору и Петр Бернгардович «усвоил манеру спора… предполагающую, что любой выражающий несогласие человек обязательно является либо дураком, либо лицемером, либо тем и другим вместе, в силу чего частым проявлением этой манеры был презрительный сарказм»6.
Напротив, статьи Ульянова становились более сдержанными. Еще в ссылке он понял, что времена самарских рефератов и эпатажа прошли. В письме Анне Ильиничне он заметил: «Насчет резкостей я теперь вообще стою за смягчение их и уменьшение их числа. Я убедился, что в печати резкости выходят неизмеримо сильнее, чем на словах или в письме, так что надо быть поумереннее в этом отношении». Даже в споре с заведомым противником он «елико возможно, старался смягчить свой тон…»7.
Юрию Стеклову, примыкавшему к плехановской группе и приславшему для «Искры» довольно резкую статью Рязанова, Ульянов тактично заметил, что в полемике надо избегать таких пассажей, которые дали бы повод для обвинений в «мелких придирках». Свою собственную позицию Владимир Ильич изложил так: «Вы сами указывали на некоторые крайности теперешней полемики… и Вы были совершенно правы; а раз крайности были, нам теперь надо быть осторожнее: не в том смысле, чтобы хоть на капельку поступаться принципами, а в том смысле, чтобы без нужды не озлоблять людей, работающих, по мере их разумения, для социал-демократии»8.
На статью Рязанова он дал более десятка принципиальных и построчных замечаний, свидетельствовавших о том, насколько серьезно относился он к своим редакторским обязанностям. А это требовало уймы времени. Его стало не хватать для ответа на письма, что тоже вызывало нарекания. От Инны Смидович толку оказалось немного, ибо сразу после приезда она родила, и хлопоты, связанные с ребенком, естественно, заполнили все ее время. От Веры Ивановны Засулич помощи в каких-то организационных делах ждать не приходилось.
К тому же и быт как-то не складывался. Поселился Ульянов у владельца пивной, немецкого социал-демократа Ритмейера без пансиона. И когда Анна Ильинична приехала к брату в Мюнхен, она нашла, что живет он весьма скудно, что нет у него самых необходимых вещей, и по такому случаю подарила подушку9. «Комнатешка у Владимира Ильича, — рассказывала позднее Крупская, — была плохонькая, жил он на холостяцкую ногу, обедал у какой-то немки, которая угощала его [мучными блюдами]. Утром и вечером пил чай из жестяной кружки, которую сам тщательно мыл и вешал на гвоздь около крана»10.
Вся эта неустроенность, а главное, нескончаемая ежедневная текучка не давали возможности сосредоточиться. А тут еще от европейской сырости Владимир Ильич подхватил инфлюэнцу. И в сердцах написал Аксельроду: «Я временами изнемогаю и совсем отвыкаю от своей настоящей работы»11.