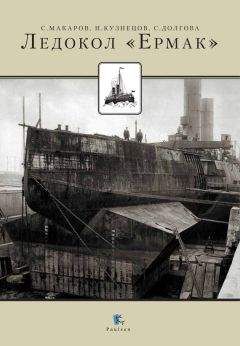Надежда Кожевникова - Гарантия успеха
Как развивается их любовь, интереса не вызывало. И удивило не то, что они расстались, а что это обсуждается так горячо. Дачных романов в поселке случалось до черта, и, что называется, без последствий. А тут вдруг: опозорил, бросил! Или: да не пара она ему! Или: каков негодяй! Ну, прямо как в пьесах Островского.
То, что ей сочувствовали как потерпевшей, Ника, думаю, воспринимала особо болезненно. Пощечина — прослыть неудачницей. Плюнуть бы на сплетни, но она не смогла. По обе же стороны барьера учуяли подоплеку: ее намерение вырваться из своей среды.
Мечтанья Золушки трогательны, пока скрыты. Если до времени они обнародуются, Золушка выставляется на потеху. Выясняется, что она не бескорыстна, а в притязаниях своих смешна. Если нет счастливой развязки, окружающие упиваются собственной трезвостью, обывательской, зато оберегающей от соблазнов. То, что их-то никто не скушал, в расчет не берется. На амбиции всегда ополчаются, если их не венчает успех.
И вот мы еще раз с ней совпали: я не состоялась в профессии, она в роли Золушки провалилась. Но мне-то рояль уже только снился, а она продолжала пытаться утвердиться в том же амплуа.
Старый греховодник Катаев подметил точно: «молочница» охмуряла и его сына, в числе прочих. От игр не отказывались, но жениться?
А Нику будто заклинило: именно здесь, в Переделкине, желала одержать победу, на глазах тех, кто, считала, ее отверг. Но, увы, ресурс дачников мужского пола был не безграничен.
В институт поступить не удалось. Потом рассказывала: хотела найти работу на телевидении, пришла с просьбой похлопотать к обозревателю, тогда известному, «Литературной газеты», но жена к нему не пустила, мол, занят. И посоветовала: «А почему бы тебе не устроиться на почту, здесь же, по месту жительства, и в электричках не будешь толкаться, чтобы добираться до Москвы».
Обида не забылась. «Ты представляешь, — повторяла потом возмущенно, — на почту решила меня определить! Сама-то кто? Из массажисток. Окрутила мужа, пока он в санатории отдыхал. А ни кожи — ни рожи».
В гневе язык ее опрощался, и она не стеснялась в выражениях. А вот когда говорила в моем присутствии по телефону, от ее томно-вкрадчивых интонаций меня смех разбирал. Дурачится, думала. Но как-то на мой смешок сверкнула негодующим взглядом. Закончив, сказала сердито: «Это был важный разговор, а ты мне мешала».
На телевидение, правда, сумела проникнуть, но чем конкретно там занималась, не уточнялось. По ее словам, ведущие популярных программ, телевизионные звезды в гости ее к себе зазывали и к ней в Переделкино наведывались. Вот буквально вчера устроили шашлыки, шампанского- залейся! И, вздохнув: «Жаль, ты была, в городе, а все получилось спонтанно. Но в следующий раз заранее договоримся». Так выходило, что эти пиры всегда случались в мое отсутствие.
Я удивилась бы, впрочем, если бы ею обещанное сбылось. Да и, признаться, пугало: в сравнении с ее вдохновенным враньем, реальность раскрылась бы во всем убожестве. Одно присутствие ее матери, заискивающей, угодливой, уронило бы Нику в глазах присутствующих. И, что важнее, в моих.
Короче, поддакивая, я не столько ее оберегала, сколько себя. Вглядеться в изнанку наших отношений по-прежнему не хватало решительности.
Одевалась Ника модно, дорого, пахла французскими духами, и, гуляя с ней по Переделкино, я гордость испытывала, что она затмевает встречаемых писательских жен и дочек. Ни жалоб, ни бабьих пошлостей я от нее никогда не слыхала. У нее было замечательное, от природы, чутье — главный, пожалуй, ее дар. И шлифовался в борьбе за выживание.
Я приходила в бревенчатый дом лесника, где в холодном тамбуре пахло соленьями, огурчиками с огорода, капустой квашенной. На пороге снимала обувь, на дощатый, выскобленный пол ступала босиком: опрятность в комнатах вызывала робость. На кухне за круглым, покрытым клеенкой столом, у меня пробуждался зверский аппетит: сметала борщ, блинчики, пироги с луком, пока Ника, растопырив пальцы, ждала, когда лак на ногтях обсохнет. Свою мать она называла теперь по имени, Серафимой, обращалось с ней как с прислугой, но я чувствовала, что эта женщина с ее притворной покорностью дочь свою держит в когтях.
Жили они, конечно, не на зарплату Ники вместе с вдовьей материной пенсией. Продукты с рынка, туалеты роскошные — явно сказывался иной приработок. Но во мне что-то сопротивлялось, чтобы назвать вещи своими именами. В раскрытые окна кухни ветви яблонь заглядывали, посаженные Никиным отцом. В саду между двух сосен гамак натянут. А в спальню можно не заходить: там все пространство занимала кровать под атласным, цветастым покрывалом.
Не выдержала моя мама: «Не понимаю, что может быть у вас общего!»
Спокойный тон ей с трудом давался. Я собралась обороняться, но она замолчала. Впрочем, то, что имелось ввиду, разъяснений не требовало. Тем более, что косые взгляды жен-дочек дали возможность подготовиться: наш с Никой альянс воспринимался вызовом, демонстрацией и стал тоже предметом для сплетен. Вот они и до мамы дошли. Но я проявила находчивость, выставив беременный живот: «А как же прогулки? Нужно, полезно, а с кем? В такую слякоть все ведь в город удрали». И шмыгнула носом для убедительности.
Муж утром уезжал на работу, и пришло в голову: почему бы ему Нику до Москвы не подхватывать? Реакцию, что мое предложение вызовет, никак не ожидала.
Считая, что обсуждать тут особо нечего, предупредила: только, пожалуйста, не опаздывай, будь у калитки точно к восьми. И тут она взвыла, монотонно, утробно, не меняясь в лице, с сухими глазами. Ее мать вбежала, выказав неожиданную сноровку: едко запахло лекарствами. Знала, что делала, не в первый, видимо, раз. С мокрым полотенцем в руке, подталкивала меня к двери: иди-иди, это так… обойдется… Пропихнула уже в тамбур, когда раздался Никин звонкий смех. И я ринулась обратно.
На диване, с холодным компрессом, сползшим со лба к щеке, она, в корчах хохота, еле выговорила: «Ты что, вправду такая дура? Да от меня бабы мужей своих по чуланам прячут, а то укушу, проглочу!»
Я буркнула: сама дура, и, как договорились, завтра к восьми. Но она не явилась, муж напрасно прождал. А вот прогулки наши продолжались, и когда у меня родилась дочка.
Шли однажды, толкая коляску, я, как обычно, смеялась над очередной ее байкой — она умела по-снайперски углядеть в людях, в ситуациях несуразности — и вдруг услышала, сказанное совершенно некстати и мрачно, с агрессивностью: «Все, пора замуж!» И, после паузы: «Знаю, за кого. Этот не увернется, не получится, попался, парень».
Так появился Леня. Невзрачный, неловкий, но сразило меня то, как Ника сияла, нас с ним знакомив — со своим, собственным, ей безраздельно принадлежащим, что он, видимо, еще не вполне усвоил.