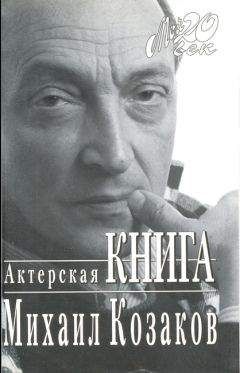Борис Слуцкий - Воспоминания о Николае Глазкове
А надпись гласила:
Прекрасной Оле Наровчатовой,
Очаровательной актрисе,
Приятной, словно климат Ялтовый,
И стройной, словно кипарисы.
Достойной только восхищения,
Как эти горы или море,
Дарю свои стихотворения
Во имя Счастья, а не Горя.
И вся его поэзия, и сам он родились для Счастья, а не Горя. Мне в наших отношениях он дал только солнечные, радостные и глубокие ощущения, все напоенные теплом и искрометностью его фантазии. Это был человек чуткой художественной души и в так называемых мелочах.
Далеко на холмах юга росли дивно прекрасные, пылающие алые цветы, волшебные, на длинных, в человеческий рост, стеблях. Чтобы их добыть, рыцари Ялты вставали на рассвете и шли пешком по узким тропам вверх. Много говорили об этих цветах писатели, и их жены, и возлюбленные. И я вскользь выразила желание взглянуть на эти цветы. И забыла об этом.
Наступил день отъезда, пришел автобус. Во дворе Дома творчества столпились провожающие и отъезжающие. Не было только Николая Ивановича, с которым мне более, чем с другими, хотелось попрощаться. А его нет и нет. Сели в автобус, и автобус тронулся.
И вдруг все разом ахнули, и так ахнули, что автобус остановился. По узкой асфальтовой аллее бежал со всех ног, со всех своих длинных ног высокий-высокий, выше, чем всегда, — Николай Иванович Глазков. Он бежал, держа в вытянутой перед собой до отказа руке — чтобы не смять! — на длинном — в человеческий рост — стебле — пылающий, светящийся, красный, алый, необыкновенный цветок, и от цветка и от него шло в радиусе всей Земли сияние Души Николая Ивановича. Гробовая тишина взорвалась аплодисментами. Никто не позволил себе ни одной, даже очень доброй шутки. Всех коснулась красота, обнаженная красота его Души. Николай Иванович добежал до остановившегося автобуса и, задыхаясь, протянул мне цветок. И до этих самых пор я не могу опомниться. Ведь отвыкли люди от этого. Таким я видела Глазкова последний раз в жизни.
Я не раз получала от него поздравления, послания с пожеланием успехов «реально-кино-театральных», послания в таком роде:
Очаровательная Оля
Луне подобна двухнедельной,
Ее хочу прославить дельно,
Найти ей слов похвальных вволю.
Акростихом своим поздравить
Решил я труженицу сцены.
Отлично выглядит она ведь,
Великолепно, вдохновенно!..
Что остается пожелать ей,
Актрисе ласковой и милой?
Триумфа, редкого, как радий,
Оваций небывалой силы,
Всех радостных мероприятий…
Она прекрасна, как легенда
Йошкар-Олы, Москвы, Ташкента!
И вновь должна сказать, что сама форма (шуточный гимн) определила преувеличение достоинства адресата и гиперболу выражений.
Способность воспринимать явления и события изнутри сочеталась в Николае Ивановиче с оценкой их со стороны, он говорил по существу, остерегаясь огульных суждений, не подкрепленных собственным проницательным наблюдением. Чужд был поспешности, и никогда я не слышала от него никакого дурного слова ни в чей адрес. Если имел он о ком-нибудь отрицательное суждение, то не оглашал его без особой необходимости.
Активно и азартно участвуя в жизни, он тяготел к философскому осмыслению всех ее сторон. Он твердо ходил по Земле, восхищался ее таинствами и чудесами и порой взглядывал в небо, а часто и сам оказывался над Землей, но, паря духом, видел реальные перспективы. Я позволю себе привести любимые мной его стихи, очень емко выражающие его мироощущение:
Мне бы спать и спать, но просыпаюсь:
Череда забот сильней зевот.
Зимнего рассвета белый парус
По утрам в поход меня зовет.
Мне вставать не хочется с постели,
Мне бы спать и спать, но даль светла:
Ждут меня удачи и потери,
Ждут меня великие дела!
Я никогда не видела его в споре, но угадывала в нем непреклонность и силу человека страстного. Хотя я общалась с Глазковым лишь короткое время, ощущение у меня такое, будто знала я его всю жизнь. Может быть, это и есть родство душ.
В нем переплеталось таинственное с реальным. Я не знаю, писал ли он сказки, но уверена, что мог бы их писать изумительно. В жизни он бывал сказочником. С серьезнейшим видом и детской важностью он и себя вплетал в сказочные истории. На берегу моря он рассказал мне о том, что однажды увидел маленьких гномов, которые, однако, оказались глупее и бесхитростнее, чем он предполагал, не открыли ему ничего нового, а только назойливо напоминали и растолковывали ему, что он — Николай Иванович Глазков. Он стал на них дуть тихо, доброжелательно и долго, и гномы, улыбаясь, растаяли. Рассказав это, Николай Иванович лукаво и затаенно улыбнулся. Должно быть, он любил детей.
Был он очень деликатен. Сближаясь с человеком, ни о чем не расспрашивал, а как бы прислушивался не торопясь.
В нем была непринужденность души.
Я могла одинаково живо представить его себе в кулачном бою и летящим на птице за тридевять земель.
Многие считали его некрасивым. Я этого не видела. Всё побивала его талантливость, его обаяние.
Он умер.
Почему? Я и сам не пойму,
Где тот климат, который безвреден?..
Ни один человек не бессмертен,
И не ведаем мы: Почему?
Давид Кугультинов
Способность Николая Глазкова всегда быть самим собой в наше поистине сложное время вызывала иногда удивление и зависть других.
Его мудрость выражалась в умении видеть мир и события только собственными глазами, и потому был его мир отличен от мира других, не стереотипен, не обычен. Таким он остался в нашей памяти. Таким он будет всегда в своих книгах.
Юрий Петрунин
Поэт северной дороги
В стихах Николая Глазкова много самоопределений. И серьезные, и шуточные, они выстраиваются в некий неожиданный ряд: «сам себе спецкор», «друг своих удач и враг невзгод», «самый безответственный работник», «Я Глазков — Харахтыров» (по-якутски тоже примерно Глазков), «неофутурист»… То он объявлял себя собственным меценатом, то подбирал себе одну из незавиднейших должностей в Поэтограде… К этому широко известному перечню можно добавить еще один глазковский титул — «Поэт Северной дороги». Именно так Николай Иванович представился однажды в сопроводительной записке к подборке своих стихов, присланных в редакцию мытищинской районной газеты.