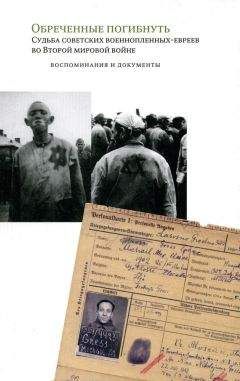Павел Полян - Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне: Воспоминания и документы
Вечная беда была с аккумуляторами: в конце смены лампы едва светили и идти к стволу было сплошное мучение. Идешь как слепой. Светишь себе под ноги, чтобы не упасть. Новая смена ослепляла нас своими ярко горевшими фонарями. Приходилось щуриться.
В один из дней при встрече в штреке с новой сменой я вдруг услышал: «Марык! Марык!» И ко мне как ни в чем не бывало подошел Ибрагим Бариев, надеясь, видимо, что я буду так же рад нашей встрече.
Я мгновенно взбесился, выхватил топор, заткнутый за пояс за спиной, и погнался за Ибрагимом. Меня схватил какой-то человек из свежей смены, обнял, другие отняли топор. Я никого не узнавал: яркие фонари ослепляли. Ибрагим убежал. Державший меня человек осветил себя своей лампой, и я узнал одного из моряков, знакомого еще по полуострову Ханко (между прочим, одного из членов «суда»). Помню только, что фамилия его была на «В» — Веревкин или Варавкин. Вообще, сюда, в Судженку и Анжерку, завезли «ванков» с фамилиями на первые буквы алфавита. Я думаю, что, если бы лампа моя горела, я бы погнался за Ибрагимом и — один удар топором, даже не до смерти — и… приличный срок в других местах.
Для меня эта встреча означала многое. Раз Бариев тоже вышел на свободу, значит, его предательство товарищей не бралось в расчет, так как оно ведь не было предательством Родины. Я же оставался при своей оценке, считая его подлецом и предателем. Ведь если бы нас в Суоми допрашивали немцы и татарин Иван Волынец был назван евреем, то его, сиречь меня, не спасло бы то обстоятельство, что я был обрезан. Скорее — наоборот.
Больше я Ибрагима не встречал. Он наверняка умотал домой, в Татарстан. Вообще, размышляя сейчас о поведении Ибрагима и Смерша, я прихожу к выводу, что мною руководила в то время скорее обида на следователей, на их несправедливость, чем на самого Бариева. Ведь из-за его лживых показаний меня продержали в лагере, быть может, лишних два месяца в ожидании показаний Сашки Волохина. Бездарная следовательская работа и полное презрение к судьбе человека.
Предательство Ибрагима как бы оправдывалось. Достойное и подлое поведение в плену, таким образом, уравнивалось.
Я убежден, что если бы Ибрагим на полуострове Ханко не прятался и был обнаружен, то наши с Сашкой показания против него на «суде» могли стоить ему если не жизни, то значительной потери здоровья. А так «поправлял» здоровье я, прожив в лагере с тем самым питанием лишних два месяца. Странно, почему я его не видел в лагере при шахте № 5/7?
Живя у Бедриных, я был совершенно лишен информации: ни газет, ни радио. Даже книг не было.
О нашей победе я узнал от Кати — племянницы Марии Ивановны. Я спал на своей койке возле двери после ночной смены. Катя ворвалась в избу, разбудила меня, стала целовать. Радость была необыкновенная.
Первой моей мыслью была та, что, может быть, теперь нас отпустят домой. Но не тут-то было. Оказывается, существовал негласный приказ: закрепить рабочих на постоянном месте труда, то есть фактически мы уже давно — крепостные.
Для всех в Анжерке, кто меня знал, я был Ваня Волынец. И только начальник участка № 52 на шахте и на ул. Пятилетки, дом № 46, знали меня как Марка Волынца.
Все лето и осень 1945 г. я продолжал работать забойщиком. Моя идея-фикс и тут меня не покидала: я тщился доказать, что евреи могут хорошо работать, наравне с другими шахтерами. Так же, как на фронте, — что евреи могут хорошо воевать.
Результат этих наивных усилий оказался для меня совершенно неожиданным. Бригадир Петр Бондаренко как-то пригласил меня в гости (что также было удивительно) и, представляя своей жене, сказал: «Ось, бачь, — це Ваня Волынец и вин каже, что вин еврэй!»
Никого переубедить, конечно, не удалось, просто меня считали не евреем.
Через два дома от Бедриных жили мать с взрослой дочерью, работавшей кассиршей на нашей шахте. Ее звали Татьяна. Она часто забегала к нам, не скрывая, что я ей очень нравлюсь. Я к ней был не просто равнодушен; она мне активно не нравилась. Однажды я спал после ночной смены в большой комнате с закрытыми ставнями окнами. Иногда мне разрешали там отсыпаться. В тот раз я был разбужен довольно продолжительным поцелуем. Проснувшись и увидев Татьяну, я демонстративно взял крем и помазал себе губы. Ее это нисколько не обескуражило. Более того, она предложила доставлять мне на дом мою зарплату, чтобы зря не стоять в очереди в кассу после рабочей смены. Я не отказался.
Однажды я зашел к ней домой за деньгами, и она с матерью упросили меня немного посидеть у них. Мать принесла мне в кружке какое-то питье. Когда я поднес кружку ко рту, я почувствовал отвратительный запах. Пить я не стал. Марья Ивановна, узнав об этом, предположила, что вонючая жидкость в кружке вполне могла быть «приворотным зельем».
Судьба Татьяны трагична. Через полгода она вышла замуж, а еще через несколько месяцев муж ее зарезал из ревности.
У Бедриных дома была гитара, и я, зная всего несколько аккордов, в свободное ото сна время бренчал на ней, импровизируя на почти один и тот же мотив, различные стихи.
Кроме рынка, который считался еще и подобием клуба, я почти никуда не ходил. Рынок находился в центре городка, а я жил ближе к окраине. Но в выходной день можно было прогуляться. В городке очень часто встречались серые финские шапочки, а ближе к осени — шинели. От одного их вида настроение портилось: ходили будто меченые. И хотя все работавшие получали зарплату, а на рыночные продукты тратили не так много, все равно купить себе новую, не репатриантскую, одежду пока не могли.
Я в письме попросил родителей прислать мне обычную телогрейку, так как это была в то время униформа для всего работающего народа.
Всего я получил две или три посылки. В первой же мне предназначались: телогрейка цвета хаки, носки и еще какие-то бритвенные мелочи. Марии Ивановне прислали чулки, о которых тут и думать забыли. Андрею Александровичу то ли табак, то ли папиросы. Мои еще не знали, что я курю, так что курево мы поделили пополам. Были какие-то конфеты и т. п.
Краешек ленд-лиза зацепил и Анжерку. Что именно и сколько всего разного было в гуманитарной помощи, мне неизвестно, но мне лично достались желто-коричневые, толстой кожи ботинки на толстенной (почти 1 см) кожаной подошве. Мои финские ботинки к тому времени пришли к своему финалу. Эти новые были «без сносу». Я был очень доволен моей экипировкой, подготовленной к осени и зиме.
Надо сказать, что в лагерные зоны гуманитарная помощь не предназначалась, а в Анжерке лагерей не было: тут все жители были «свободными».
Все лето и осень 1945 г. в Москве шла пока еще невидимая и безрезультативная работа, цель которой — мой приезд в Москву. Инициатором, конечно, была мама. Основанием моего официального возвращения было мое довоенное заявление в Авиационный приборостроительный техникум, которое было в техникуме в целости и сохранности.