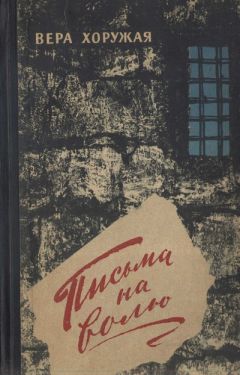Леонид Млечин - Фурцева
Один из пушкинистов, приглашенных на обсуждение спектакля, Натан Яковлевич Эйдельман записал в дневнике 9 марта 1972 года: «В пустых коридорах МХАТ бродит Зорин — решается судьба „Медной бабушки“: мы эксперты. В кабинете О. Н. Ефремов — милый, обаятельный — звонит зам. министра Воронкову — другу пьесы: тот болен, а из-за него перенесли на два дня, чтобы не был один Иванов, начальник главка. Ефремов жалуется: думал, что лучше быть в таком важном театре, где над тобой одно начальство — нет, лучше, когда много…»
Константин Васильевич Воронков в 1958–1970 годах был секретарем правления Союза писателей СССР по организационно-творческим вопросам. Эту должность занимали когда-то и Александр Щербаков, будущий секретарь ЦК, и Дмитрий Поликарпов, будущий заведующий отделом культуры ЦК. Без преувеличения — важнейший пост в литературно-политическом пейзаже. Воронков был бдительным и верноподданным чиновником, крутым, но внешне вполне респектабельным, таким запомнила его поэтесса Римма Казакова. И его сделали заместителем Фурцевой. В Союз писателей после долгих консультаций и размышлений прислали недавнего заведующего отделом культуры МГК КПСС Юрия Николаевича Верченко, человека доброжелательного и обаятельного, умело ладившего с поэтами, прозаиками, драматургами… А Константин Воронков (не зря же он столько лет руководил писателями) соорудил сценическую композицию по поэме Твардовского «Василий Теркин», ее поставил в 1961 году театр имени Моссовета.
«Ролан Быков волнуется, — записал в дневнике Эйдельман. — Пьеса идет на „ура“ — смех etc. Затем обсуждение. В громадном кабинете — сначала мы все умело хвалим — „есть положительные результаты“. Затем — Степанова, злая как ведьма, пренебрежительно, нехорошо об актере (Быкове) — маленький etc… Спекулируют на скованности, нерешительности Быкова — и тут же уходят — им надо на вечерний спектакль. После этого „поименное голосование“: вся молодежь за Быкова, все старики — что не тот, не обаятелен…»
«Старикам» не нравился негероический облик Ролана Быкова.
— Вот я, — возмущенно говорила Алла Тарасова, — если бы я, скажем, увидела Пушкина, я бы сразу в него влюбилась…
— Вы бы, Алла Константиновна, — не выдержал Козаков, — влюбились бы в Дантеса.
Начальник Управления театров Георгий Александрович Иванов был недоволен пьесой Леонида Зорина.
Эйдельман: «Иванов говорил, что читал пьесу два-три раза, но его замечания не учтены, что в пьесе нет драматургии, и его берут измором — что надо говорить о пьесе (и режиссере): дескать, Зорин и Ефремов виноваты в плохом Быкове…»
Зорин: «Я поставил двадцать пьес, десять кинофильмов, обо мне пишут диссертации — и вот дожил: нету драматургии. Если „Медная бабушка“ не будет иметь успеха, я торжественно обещаю бросить перо… Я — за Быкова…»
На другой день утром приехала Фурцева с двумя замами. Автора пьесы на обсуждение не пустили.
— А вы куда? — остановила его Екатерина Алексеевна. — Нет, вам туда не следует. Мы театральные дела обсудим.
Растерянный Зорин ушел.
Фурцева отвергла Ролана Быкова как исполнителя роли Пушкина:
— Это урод! Товарищи дорогие, он же просто урод! Никто не смог ее переубедить.
— А пушкинисты, — сказала Фурцева, — пусть занимаются своим делом…
Она повернулась к ветеранам МХАТа:
— Товарищи старейшины, я вами недовольна (испуг, заметил Эйдельман). Вы мало критикуете ваших молодых руководителей (облегчение).
Но Олега Николаевича Ефремова министр в обиду не дала.
«Ефремов есть Ефремов, — записал впечатления от ее слов Михаил Козаков, — и он у нас один талантливый, молодой, мы в него верим».
Пытаясь спасти спектакль, Ефремов пообещал сам сыграть Пушкина. Но Фурцевой нужен был другой спектакль на современную тему — по пьесе Геннадия Кузьмича Бокарева «Сталевары». Ролан Быков не сыграл роли, для которой был создан; чудо погибло, заключил один из пушкинистов, который видел черновой прогон спектакля. Михаил Козаков покинул МХАТ. «Сталевары» были поставлены и имели успех. В октябре 1973 года Екатерина Алексеевна Фурцева открыла новое здание Московского Художественного театра на Тверском бульваре, где через год с ней будут прощаться.
Глава десятая
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ФИНАЛ
Как же все это случилось? Почему пошли разговоры о том, что Екатерину Алексеевну Фурцеву убирают с поста министра, что ждет ее безрадостная пенсионная жизнь — и, может быть, даже одинокая старость, поскольку рушилась не только ее политическая карьера, но и отношения с мужем?
Рассказывают, будто в разгар важного совещания в кабинет Фурцевой вошел человек в полувоенной форме, срезал белый телефон правительственной связи и удалился. Все всё поняли и на цыпочках покинули кабинет министра культуры. Она поехала домой и вновь вскрыла себе вены… Но это байка. Так дела не делаются. Телефоны не срезали даже у снятых начальников, в крайнем случае отключали. Тем более что аппаратов правительственной связи союзному министру полагалось несколько.
Известны, конечно, случаи, когда ни о чем не подозревавший министр получал пакет, привезенный фельдъегерем, вскрывал его и обнаруживал указ президиума Верховного Совета СССР об освобождении от должности. Но в отставку Екатерину Алексеевну не отправляли. Не успели. Она ушла из жизни. И по сей день никто не берется ответить, как именно она умерла. Не было ли это самоубийством?
Ни по возрасту, ни по настроению она вовсе не собиралась уходить. Наверное, даже представить не могла себя на пенсионном покое. Но, похоже, ее министерские дни были сочтены. И рассчитывать на милосердие товарищей по партии ей не приходилось. В политическом мире нет настоящих человеческих отношений.
Говорят, что с ней тяжело было работать, что она и сама могла быть жестокой и беспощадной. Привыкла к роли вершителя судеб и к власти над людьми. Странно, что ее не окрестили «железной леди». Хотя… само это понятие родилось позже, уже после ухода Фурцевой из жизни. Да она и не была железной! Для человека с ее политической карьерой она была, пожалуй, чересчур чувствительной.
«Все в ней было перемешано густо, — писал драматург Леонид Зорин, — с какой-то отчаянной расточительностью — благожелательность и застегнутость, вздорность со склонностью к истеричности и неожиданная сердобольность, зашоренность и вместе с тем способность к естественному сопереживанию, подозрительность и взрыв откровенности…
Страстность, порывистость, женская сила и — безусловная нереализованность, было ясно, что жизнь ее несчастлива, в ней существует печальная тайна, что-то отторгнуто и отрезано. Но прежде всего, но над всем остальным — неукротимое честолюбие. Оно-то ее и погубило, она не смогла пережить опалы…»