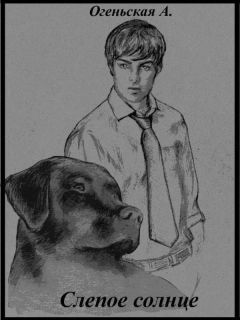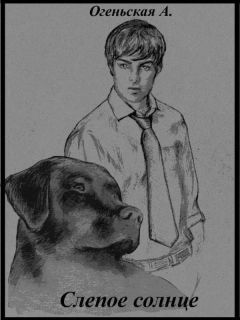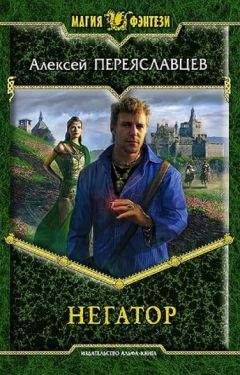Николай Греч - Воспоминания о моей жизни
Заметив с первого слова, что ему трудно говорить по-французски, я прервал его речь вопросом:
— Говорите ли вы по-русски?
— Говорю-с. Я поляк.
— Итак, к чему толковать по-французски? Скажите мне, пожалуйте, что вам угодно.
Тогда объявил он мне, что пришел по просьбе одного французского литератора де Сен-Мора, человека необыкновенно умного, ученого и благородного, который намерен читать лекции о французской литературе.
— Да какой он партии? — спросил я. — Кажется, отъявленный роялист.
— Точно, самый ревностный приверженец законной династии.
— Как же он может быть умным человеком? — сказал я. — Умный легитимист в нынешнее время не поедет из Франции, чтоб искать хлеба за границей. Видно, он олух и не знает, что делать; или так умен, что видит близкое падение своей партии. Вообще в нынешней Франции ум, знания, дарования — на левой стороне.
Мой собеседник захохотал весело.
— Так вот вы какой! А я думал, что вы ревнитель Бурбонов и монархического начала.
Мы разговорились и познакомились. Это был Фаддей Булгарин.
Я был в то время отъявленным либералом, напитавшись этого духа в краткое время пребывания моего во Франции (в 1817 г.). Да и кто из тогдашних молодых людей был на стороне реакции? Все тянули песню конституционную, в которой запевалой был император Александр Павлович. Оппозиция Аракчееву, Голицыну и всем этим темным властям была тогда в моде, была делом известным, славой и знаменем тогдашнего юного поколения. Самым либеральным журналом была «Северная Почта», выходившая под ведением министра внутренних дел Козодавлева. Семеновская история еще не навлекала мрачных туч на горизонте светлых идей и мечтаний: Революции греческая, а потом испанская и итальянская, встречали в России, как и везде, ревностных друзей и поборников. Булгарин, как щирый поляк, не мог не разделять этого движения умов. В моем доме он узнал Бестужевых, Рылеева, Грибоедова, Батенькова, Тургеневых и пр. — цвет умной молодежи!
Несколько раз должен я напоминать, что Булгарин был в то время отнюдь не тем, чем он сделался впоследствии: был малый умный, любезный, веселый, гостеприимный, способный к дружбе и искавший дружбы людей порядочных. Между тем, по национальной природе своей, он не пренебрегал знакомством и милостью людей знатных и особенно сильных. Умел он сойтись и с гнусным Магницким, и с сумасбродным Руничем, и с глупым Кавелиным, познакомился с лицами, окружавшими Аракчеева, пролез и к нему самому. До 1823 года он литературой занимался мало, посвящая все свое время, всю свою деятельность ведению своего процесса. И мне кажется, что занятия этим процессом, сопряженные с уловками и проделками, которые не всегда оправдываются законами чести и долга, имели вредное влияние на развитие его понятий и характера.
Для достижения своей цели он употреблял все возможные средства: с утра до вечера таскался по сенаторским и обер-прокурорским передним, навещал секретарей и стряпчих, кормил и подкупал их, привозил игрушки и лакомства их детям, подарки женам и любовницам. Польская натура нашла в этих маневрах обильную пищу своей низкопоклонности, лести, хвастовству и хлебосольству с определенной целью. Эти подвиги, оправдываемые свойством его занятий, произвели в его уме смешанную теорию правил войны, сутяжничества и литературы. Потеряв возможность продолжать с успехом военную службу, он пошел в стряпчие; видя, что можно приобрести литературой известность, а с нею и состояние, он наконец взялся за нее, руководствуясь на каждом из сих поприщ правилами — достигнуть цели жизни, т. е. удовлетворения тщеславию и любостяжанию. Эта теория не мешала ему притом быть человеком не злым, добрым, сострадательным, благотворительным и в минуту порыва готовым на пожертвование.
Он почитал и уважал добрые стороны в людях, даже те, которых сам не имел. Таким образом постиг он всю благость, все величие души Грибоедова, подружился с ним, был ему искренно верен до конца жизни, но не знаю, осталась ли бы эта дружба в силе, если бы Грибоедов вздумал издавать журнал и тем стал угрожать «Пчеле», то есть увеличению числа ее подписчиков. Признаюсь, если бы я знал, каков Булгарин действительно, то есть каким он сделался в старости, я ни за что не вошел бы с ним в союз. Но эти порывы мне казались простыми вспышками ветреного самолюбия. Я не видел, что в этом скрывалась только исключительная жадность к деньгам, имевшая целью не столько накопление богатства, сколько удовлетворение тщеславию.
Фридрих II сказал однажды о поляках: «нет подлости, которой бы не сделал поляк, чтоб добыть сто червонцев, которые он потом выбросит за окно». К тому должно еще прибавить, что человек может исправиться от тех привычек и слабостей, которые привились к нему от ложного воспитания, от дурных обществ и примеров и т. п., но врожденные свойства его, и хорошие и дурные, с годами крепнут и возрастают. Так было и с Булгариным: в молодости он был любезен, остер, добродушен, обходителен; эти качества исчезали в нем с каждым годом, и с каждым годом увеличивалось в нем чувство зависти, жадности и своекорыстия, заглушая добрые его свойства.
Я приписываю странности и причуды Булгарина его воспитанию, обстановке и последовавшим обстоятельствам его жизни, но в самой основе его характера было что-то невольно дикое и зверское[39]. Иногда вдруг, ни с чего или по самому ничтожному поводу, он впадал в какое-то исступление, сердился, бранился, обижал встречного и поперечного, доходил до бешенства. Когда, бывало, такое исступление овладеет им. он пустит себе кровь, ослабеет и потом войдет в нормальное состояние. Во время таких припадков он действительно казался сумасшедшим и бешеным, и было бы несправедливо винить его за то: это были припадки болезни нрава, уступавшие механическим средствам, т. е. кровопусканию. Когда я убедился в возрастании недружелюбия, зависти и злобы в Булгарине, надобно было бы расторгнуть нашу связь, но от нее зависело благосостояние моего семейства. Я сносил с терпением все его причуды, подозрения и оскорбления, но нередко выходил из терпения: так, в 1853 году не мог не восстать против него всенародно, вследствие его жалкого и подлого идолопоклонства перед музыкантом А. Контским. Потом поступил он со мной бесчестно и открыл всю глубину своей души. Между тем он впал в болезнь, и я не мог ничего сделать.
В то время, как я познакомился с Булгариным, он не доверял еще своему искусству владеть русским языком в литературном отношении, писал деловые бумаги при помощи подьячих — и очень искусно, что видно из выигранного им процесса своего дяди. Между тем, хотелось ему заработать что-нибудь литературной работой. Он вздумал издать «Оды Горация», с комментариями Ижевского и других критиков, но сам он знал по-латыни очень плохо, просто сказать, знал этот язык, как какая-нибудь полька, посещающая католическую церковь. Ему помог один мой родственник, и книжка вышла изрядная. Ижевский и некоторые другие латинисты жаловались на заимствование их примечаний, но Булгарин оправдался тем, что упомянул об этих заимствованиях в своем предисловии. В то время втерся он к Магницкому и Руничу и старался, при их помощи, ввести эту книгу в училища, но обещания их ограничились словами. Книга не раскупалась, и Булгарин решился пожертвовать ее в пользу училищ.