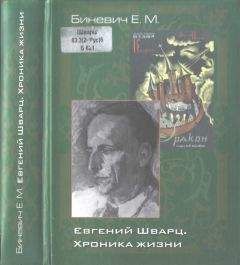Евгений Шварц - Позвонки минувших дней
«Недавно поразило меня, когда разглядывал я толпу, как разно заведены люди, шагающие мне навстречу по улице. Разно, очень разно заведены и Шкловский, и Эйхенбаум, но двигатели в них работают непрерывно, и топливо для них, горючее, добывается, течет непрерывно от источников здоровых. Любопытство, жажда познания, а отсюда любовь к одному, отрицание другого. И Шкловский тут много ближе к многогрешным писателям, а Эйхенбаум — к мыслителям, иной раз излишне чистым. Сейчас они оба живут в Доме творчества, и как ни зайдешь — то у одного, то у другого какие‑то открытия. Борис Михайлович беленький, легенький, с огромной — нет, точнее, с просторной головой. Волосы вокруг просторной, красной от летнего загара лысины кажутся серебряными. Он очень вежливо, что ему никак не трудно, очень внимательно встречает тебя и рассказывает, что такое Бах. Он в последнее время занимается Полонским, ему заказана статья к однотомнику, и все думает и думает о музыке. Он приобрел проигрыватель и целую библиотеку долгоиграющих пластинок. Составил к ним карточный каталог. Читает упорно книги по музыковедению. Никто не заказывал ему статью о Бахе, но он все думает о нем, думает. Шкловский, когда входишь в сад Дома творчества, на площадку между столовой и самим Домом, где стоит в цветочной клумбе на высоком деревянном постаменте бюст Горького, Шкловский, повторяю, поворачивает к тебе всю свою большеротую, курносую, клоунскую маску. Смотрит Шкловский и как бы взвешивает на внутренних весах, выносит он тебя нынче или не выносит. И если стрелка весов за тебя — заговаривает.
В последний раз он говорил о том, что в первых вариантах «Войны и мира» сюжет зависит от воли героев, от их сознательных решений. Князь Андрей отказывается от Наташи для того, чтобы Пьер мог на ней жениться. И постепенно убирает все сознательные поступки, и сюжет развивается вне воли героев.
Впрочем, рассказав это, Шкловский добавил: «У меня нет уверенности, что это интересно. Я теперь совсем потерял ощущение того, что интересно и что нет». Вчера мы вернулись вечером в Комарово[155]. Приехали в город в субботу. Наташа везла с собой цветы, чтобы посадить на папиной могиле. Мы нашли ее осенью прошлого года во второй раз. До этого разыскал ее случайно Валя. И все мы собирались привести могилу в порядок. Но вот Катюша в позапрошлое воскресенье приехала на кладбище с Анечкой, нашла нужных людей, и специалист этого дела, сообщивший как‑то Анечке, что он с шестилетнего возраста состоит при кладбищах, взялся сделать чугунный крест и то, что называют они там раковиной. Овальное небольшое надгробие, выложенное вокруг белыми камушками. В субботу, приехав на кладбище, убедились, что специалист своего обещания не сдержал. На Богословском кладбище теперь у нас много друзей и знакомых. И мы посадили привезенные цветы на могиле Суетина. Вечером позвонил специалист, сообщил, что его посылали в колхоз и поэтому не мог он выполнить заказ. Обещал к субботе. Никогда я не привыкну к кладбищам.
Вспоминая мою жизнь и понимая легче, чем тогда, и себя, и события, что переживались двадцать пять лет назад, почувствовал я вдруг ночью, засыпая, что вся жизнь человеческая — явление двойное. Одни события вокруг, а другие — внутри. Душа идет, идет, меняется. И не только у тебя, а у близких. У тех, у которых душа не спит. Пришел к человеку, разговариваешь, а он уже не тот, что вчера. Счастье и несчастье, большие, страшные события нарушают путешествие души. Она замирает от счастья или от ужаса. И когда приходит в себя, все вокруг нее изменилось. Светлее стало или темнее. Приходишь к человеку, а душа уже ушла, летит по новому миру. И в этом мире случаются события, едва уловимые. Забредет душа в такую страну, что сам удивляешься. Чаще всего это случается, когда события общего мира затянут тебя в обстановку непривычную и незначительную, но напряженную. Вчера пришлось мне поехать на общегородской пионерский праздник в Зеленогорск. Первое чувство — что мог бы и не приезжать. Не читать меня звали, а сказать приветствие. Сказал. Хотел уехать, но меня посадили на диванчик, деревянный, садовый — смотреть. Большое поле. Узор посреди из крашеного песка, невозможно охристого, невозможно кирпично — красного. Трибуны по ту сторону поля. Беговая прямоугольная дорожка ограничивает его. И несмотря на огромное количество ребят, праздник едва теплится, все спотыкается. Идет карнавал из героев детских книг. Ведут Гулливера лилипуты. Дальше не могу понять кто. Вернее всего мушкетеры. Мистер Твистер. И почему‑то Бобчинский и Добчинский в картонных цилиндрах. Участники карнавала в своих картонных, бумажных и настоящих бархатных тут же костюмах смущены так, что заражают и нас. Они так же не сливаются с миром, как раскрашенный песок.
И вот я отделяюсь, перестаю понимать то, что делается. Впечатления, которых не искал и не ждал, а просто тебя к ним занесло, — всегда мне враждебны. Если я им удивляюсь, то холодно. И раскрашенный песок, и дети в бумажных одеждах, и день, то ясный, то темнеющий, все в дымке — все кажется не вполне настоящим. А резко, словно я проснулся и увидел, представился мне Сталинабад. Кусок площади, заросшей бурьяном, все расширяется передо мной. Вижу канаву, мостики, чувствую дома вокруг. Вижу боковые улицы, переулки, которыми мы идем… к Войно — Ясенецким. И воспоминание это не только ясно, представление это не только значительно более похоже на действительность, чем то, что совершается передо мной. Оно еще и осмысленнее. Но почему? В чем смысл? Запас слов из общего мира до того не соответствует этому только моему представлению, что его и не выразишь никогда. Это душа идет своей дорогой. Времени для нее не существует, и поэтому она прошла по Сталинабаду 44–го года с такою легкостью и простотой. Точнее мне это не передать. Сегодня суббота, день ясный, но холодный, 16 градусов[156]. «Водокрут» двигается. Все время хочется уехать на юг. Здоровье мое ухудшается. Перебои, которые замечаю, если держу на пульсе руку. Голова — явные приливы крови. Третьего дня вдругтак разболелось колено, что я не мог ходить. Сейчас могу. Не знаю, может быть, старость мечтает о покое. Но в предчувствии старости хочется еще раз, или несколько раз, вырваться из привычной колеи. Полететь на самолете к морю. Пройти по шоссе и через заросший ажиной овраг, увидеть море. На теплоходе глядеть на удаляющийся берег. На тихо отходящую от борта пристань. И новые люди. И погода, привычная с детства. И тревога.
Ночи превратились для меня в мучения… Бессонницей я не страдаю. Мучают бессмысленные и страшные сны. Просыпаюсь я примерно каждый час, пью воду, успокаиваюсь с трудом. Болит голова. Перебои. Я испытываю отвращение к самому себе. И вместо воспоминаний о прошлом я начинаю мечтать, что было бы, если бы… И касается это все Майкопа. И вчера я подумал, что «Том Сойер» и есть разновидность подобных мечтаний. Я в мечтах сегодня тайно от всех овладевал музыкой. И поражал всех, выступая на вечере в реальном училище. И поражал Бернгарда Ивановича. И дальше. Я приходил к Грауэрману, уже студентом. И знакомился с Сатиными. А через них с Рахманиновым, и так далее, и так далее, просто стыдно писать. Но в мечтах, ночью, все выходит воздушнее, убедительней и безобиднее. И майкопские чувства — первые, когда образовывался запас и вырабатывался ход чувств — убирают глупость и грубость желания славы, и только. И пахнет пылью днем и цветами вечером. Днем, когда я играю одному Бернгарду Ивановичу, а вечером, когда я иду на выпускной вечер, на второе отделение. Когда Милочка думает, что я не приду, наверное. А я выступаю и поражаю всех. И как всегда, в любых мечтаниях я прежде всего работаю. Часами играю на рояле. Пишу тоже по многу часов. Вчера же ночью понял еще вот что: как вдруг кольнет тебя в бок в результате неосознанного, нет, в результате вне сознания идущего жизненного процесса, так выплывают воспоминания и представления в результате вне сознания совершающегося движения души.