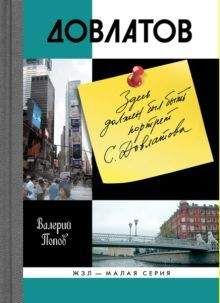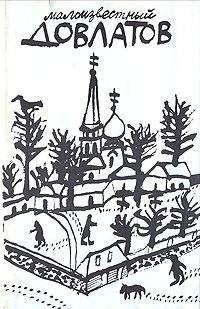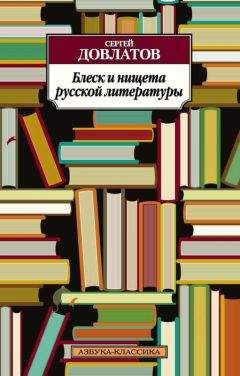Татьяна Щепкина-Куперник - "Дни моей жизни" и другие воспоминания
В этом было много правильного, и, думаю, теперь некоторые ее изобретения очень пригодились бы, но тогда над ней подсмеивались, и, как все «новаторы», успеха она не имела.
Она была страстно увлечена идеей вегетарианства. Даже выпустила целую поваренную книгу «Для голодающих», напечатанную для дешевизны на серой оберточной бумаге. Там, как панацею от голода, она советовала (и с этого начиналась книга) «в чудные летние дни собирать в душистых лугах разные травы, сушить их в мешочках из кисеи»… и потом питаться супом из сена, утверждая, что это лучшая и притом бесплатная пища. У нее за обедом и подавался неизменно этот суп, но при этом еще несколько блюд, какие-то рагу из овощей, пирожки с рисом или с капустой, кисели, компоты; большую роль в их столе играли бананы, фрукты и орехи. Все это попало и в книгу «Для голодающих», причем Нордман не указывала, как голодающий может добыть себе бананов или мандаринов…
Она что-то писала, где-то печаталась, большей частью сама издавала брошюры на интересовавшие ее темы. Репину очень импонировала ее литературная деятельность: он делал иллюстрации к ее литературным произведениям, дарил своим друзьям и знакомым ее брошюры, слушал ее чтение с восхищением, хотя по сравнению с его интересными, всегда искренними статьями и воспоминаниями ее произведения не стоили ничего, но и тут проявлялась его наивная скромность.
Нордман под своей «откровенной» и веселой внешностью, вероятно, умела быть строгой — достаточно было видеть, какими иногда виноватыми глазами Репин смотрел на нее. К посторонним она подходила с экспансивной приветливостью, всех называла «братцами» и «сестрицами». Помню, как-то раз она была в особенно «вакхическом» настроении. У них было довольно много народу, в том числе Яворская с мужем, приехавшие из-за границы. Они слегка препирались с Нордман: обе были вегетарианки, хотя Яворская вегетарианкой была сомнительной, по крайней мере, как-то она уверяла меня, что «холодная ветчина» — кушанье вегетарианское. Но она была против вина, а Нордман говорила, что вино — это «кровь солнца» и что надо его пить, чтобы все соки бродили в человеке. Она обхватила Яворскую шутливо за тонкую талию — рядом с ней она казалась особенно громоздкой, но была, видимо, в том настроении, когда ей, как героине чеховской «Дуэли», хотелось «танцевать и говорить по-французски», она бежала по аллее, восклицая:
— Скорей, вина, вина! Поднимем бокалы за радость жизни!
И наливала в рюмки кисленького удельного вина. Репин пил его и морщился, но послушно повторял тост «за радость жизни!..»
В вегетарианство она обратила и его, и он беспрекословно повиновался ей. Он уверял, когда ему было уже под семьдесят, что никогда не чувствовал себя таким молодым, бодрым и работоспособным, как с тех пор, что окончательно перешел на «травяной режим» и что травы производят чудеса оздоровления.
Однако, когда он приезжал в Петербург и попадал к Тархановым, он отрешался от своих идей.
Тархановы были его близкие друзья. И мужа, и жену он писал неоднократно. Иван Романович Тарханов — известный профессор, физиолог — был женат на родной племяннице скульптора Антокольского. Долголетняя дружба связывала Репина со всеми Антокольскими. Елена Павловна сама занималась скульптурой как талантливая любительница. Жили Тархановы в большой, чисто петербургской квартире на Б. Морской, с темноватой столовой и кабинетом, украшенным портретом хозяина работы Репина. Он писал его не один раз. Первый портрет был сделан еще в 1892 году, второй — в 1905 году. Второй и висел в кабинете Тарханова.
Тарханов был интересной моделью, особенно для Репина, которому гораздо лучше удавались мужские портреты. У профессора была голова Зевса Олимпийского, великолепные яркие глаза, красивая смуглость лица. Импозантный, стройный человек, большого роста. Одна была у него странность: тонкий женственный голос, с первого раза прямо поражавший несоответствием с величественной, юпитеровской фигурой ученого.
Елена Павловна была невысокого роста, слегка прихрамывавшая женщина, всегда приветливо оживленная, но ее почему-то Репин написал в виде хорошенькой модной картинки, что совсем не соответствовало ее характеру, ни внешне, ни внутренне. Эта манера иногда была у Репина в его женских портретах. Не могу при этом не вспомнить его портрета Л. П. Штейнгель, бывшего на выставке под названием «Портрет г-жи N.». Я часто встречала ее, будучи еще подростком, в Киеве, в доме родителей ее жениха, внука декабриста Штейнгеля. Эта девушка была так хороша, что наша молодая компания дала ей прозвище «Венеры Павловны», под которым ее и знал весь Киев. Всей ее воздушной, сверкающей прелести Репин совершенно не передал в своем портрете.
Возвращаюсь к Тархановым. Репин очень любил бывать у них и, приезжая, всегда просил Елену Павловну:
— Сделайте-ка мне хороший вегетарианский… бифштекс!
Кушал он его с удовольствием, лукаво поглядывая и говоря:
— Опять съел отравы… и сейчас же начинается процесс умирания… а я вот его и не ощущаю! — причем просил не выдавать его Наталье Борисовне.
Помню, мы как-то с мужем обедали у Тархановых. Кроме нас, были только Т. Порадовская, Репин и скульптор Паоло Трубецкой. Порадовская — дочь первой жены Тарханова — была очень талантливая молодая художница, импрессионистского направления. Она еще задолго до войны натурализовалась в Польше, где у нее бывали свои выставки, потом уехала в Париж и работала там. В то время это была изящная, тоненькая и высокая, как тростинка, женщина с маленькой головкой, огромными черными глазами, занимавшими пол-лица, и красивым, нервным личиком. Репин пробирал ее за направление, но зарисовывал во всех видах, между прочим в костюме шекспировской Джульетты, — рисунки эти, вероятно, увезены ею в Париж.
Паоло Трубецкой только недавно приехал из Италии. Знаменитый русский скульптор был по воспитанию и, кажется, по матери итальянец, и почти не говорил по-русски. В то время он прославился на всю Россию своим памятником Александру III. Памятник был поставлен на площади, против Московского вокзала. Огромный, мощный, но неуклюжий конь сгибался под тяжестью огромного, грузного всадника, притягивавшего его голову к земле, затягивая поводья, несомненно, останавливая его на пути. Какое противоречие «Медному всаднику», бурно мчащемуся вперед на своем вздыбившемся коне в неведомую даль! Как он мог быть одобрен и поставлен, — понять трудно. Правда, часть общества видела в нем, или хотела видеть, символ мощи самодержавия, тогда как художник стремился изобразить весь гнет и насилие этого самодержавия. Близорукие власти видели в нем просто конную статую Александра III в военной форме и шапке. Трубецкой молчал о своем памятнике и своих мыслей по поводу него не высказывал.