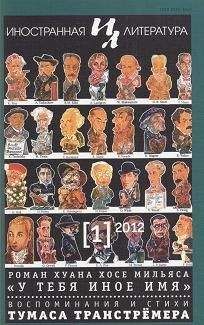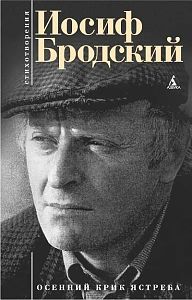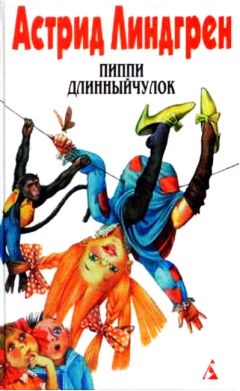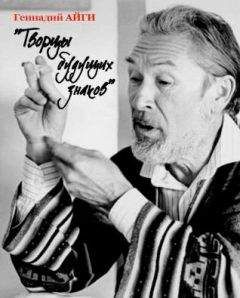Юрий Нагибин - Ты будешь жить
Его боль была груба и жестка, чтобы стать чем-то, кроме себя самой, будь он хоть Моцартом, из такого материала не создашь прекрасного. Но есть ли смысл думать об этом, если в мировом шуме замолкла музыка сфер?
Сколько раз прокручивал он свои бессильные мысли с усердием белки в колесе, но, как и рыжий неутомимый зверек, не продвинулся ни на шаг.
Оцепенение нашло на него, когда он похоронил Катю. Он наотрез отверг попытки полиции, чиновников всех мастей и доброхотов найти преступников и покарать по строгости закона. «Я ничего не знаю. Ничего не видел. Сразу отключился. А когда пришел в себя, никого не было». Он лгал, ибо хорошо знал главаря шайки, но ведь не было ни свидетелей, ни косвенных улик, а лишь это важно для суда. Да и есть ли кара за такое?.. Рядовые участники насилия его не интересовали. Это не люди даже, так, пузыри земли, нежить, тупые механизмы зла. Другое дело их главарь, вернее, наниматель: тут не было партнерства, сообщничества — игра одного, остальные — наемники.
А главаря он знал с отроческих лет, они вместе учились в колледже. Но Ник не признал старого знакомца, когда тот появился из садового вечернего сумрака через распахнутое окно в холле, где он играл на рояле, а Катя слушала, подперев голову рукой. Катина сосредоточенность не могла обмануть Ника, она не любила его музыки. Это не ранило, потому что она не любила никакой музыки, за исключением нескольких немудреных песенок, которые ей пела в детстве покойная мать.
Катя была равнодушна не только к музыке, но и к литературе, ко всем видам искусства, к серьезному размышлению.
При этом она вовсе не была лишена художественного чувства, могла безукоризненно выстроить интерьер и составляла замечательно красивые букеты. Ей не раз предлагали участвовать в конкурсах цветоводов, в телевизионных цветочных шоу, она неизменно отказывалась. Лишь раз позволила сфотографировать для «Вога» свои букеты, но сама наотрез отказалась сняться. Она почти не читала, ей было скучно, но однажды он навязал ей Пруста, с тех пор она каждый год пропускала через себя всю эпопею. О своих впечатлениях помалкивала, но как-то раз обмолвилась, что это не продукт памяти, а творчество. Мол, Пруст, как и многие другие романисты, использует материал собственной жизни не для воспроизведения реального прошлого, а для создания параллельного мира, лишь относительно похожего на истинно бывший. Он был несказанно удивлен, когда в двухтомном исследовании английского литературоведа, посвятившего всю жизнь Прусту, нашел подтверждение Катиной угадки. Ни один персонаж не имел за собой прямого прообраза, даже такая цельная фигура, как барон Шарлюс, оказалась сработанной из двух обитателей Сен-Жерменского предместья. А блистательному, будто слаженному из одного куска Роберу де Сен Лу уделили свои черты шесть юных баловней салонов. И ни один эпизод романа не был сколком с действительности. Ему хотелось узнать, как Катя догадалась об этом, но она не могла или не хотела объяснить. Она не любила напрягать ум.
Каким-то образом Катя набрела на «Беллу» Жана Жироду, и этот изящный роман вошел в круг ее постоянного чтения. В ограниченном литературном пространстве она чувствовала себя вполне уютно. А когда, расхрабрившись, он предложил ей Достоевского, Катя задумчиво сказала: «Надо хоть что-то оставить на старость». Но старости у нее не будет.
При такой умственной лени Катя ошеломляла проницательностью и глубиной оценок людей и обстоятельств, но оценки эти рождались как бы сами собой, без ее участия. Интересовали ее — не суетливо и не жадно — люди: близкие и далекие, случайные зашельцы, служанки, продавцы магазинов, шоферы, почтальоны, трубочисты, рассыльные. Вообще-то молчаливая, она могла говорить о них долго и подробно, с живым блеском в спокойных серых глазах. «Ты следуешь Паскалю, — сказал Ник. — Тот утверждал, что человеку по-настоящему интересен только человек». Она осталась равнодушна к свидетельству Паскаля, но ответила серьезно: «Люди правда очень интересны. В них интересно все: как они ходят, едят, пьют, спорят, обижаются, радуются, печалятся, злятся, завидуют, и почти каждый что-то скрывает, и все без исключения врут». «И ты врешь?» — спросил Ник. «Случалось. До встречи с тобой. Потом моя жизнь стала состоять из правды, то есть из того, что я люблю: ты, собака, кошка, дом, сад, цветы. Вранье идет от недостатка любви: или ты сам недостаточно любишь, или тебя недостаточно любят. А мне врать не надо». Не могло быть для Ника более дорогого признания. С того разговора круг ее любви сократился. Кота Тима, маленького, ласкового и невероятно блудливого, задрали одичавшие коты с заброшенных ферм, пес, коккер-спаниель, старина Джерри, исчез, ушел из дома, чтобы умереть в укромном месте. Его так и не нашли. Хорошие породистые собаки стараются не огорчить хозяев зрелищем своей смерти. Все это произошло незадолго до Катиной гибели. Можно подумать, что животные предчувствовали случившееся и предпочли не жить. А вот он ничего не предчувствовал, и Катя не предчувствовала. Правда, она то и дело принималась плакать то над Джерри, то над Тимом, но за туманом слез был свет, который погас, когда остановилось ее слабое сердце.
«Если б я мог заплакать, — подумал Ник. — Мне стало бы легче».
Но заплакать он не мог. С ним случилось нечто странное: он словно обезводился. Глаза его оставались сухи не только в образном, но и в прямом смысле: исчезла та неприметная влага, которая омывает глазное яблоко, сухие глаза болели и чесались. Он то и дело смачивал их водой или слюнями, если воды не было под рукой. И так же сохли ротовая полость и гортань. Особенно невыносимой эта сухота становилась ночью, он все время пил и тут же отдавал мгновенно превращавшуюся в урину жидкость.
«Для чего я все-таки живу? — в который раз спрашивал себя Ник. — Чтобы мучиться?.. Нет, думать о Кате. Если я умру, некому будет думать о ней, сотрется последняя память о ее пребывании на земле. У нее нет ни родных, ни близких друзей, как и у меня самого, мы оба на редкость одинокие люди. Но мы не знали одиночества, наше сильное ощущение друг друга наполняло счастливой тяжестью каждую минуту, каждую подробность жизни. Частью нашей общности был и дом, носивший в любой малости отпечаток ее вкуса, и милые животные, а у меня была еще музыка. Большего мне не вместить. А Кате не нужна была даже музыка, отнимающая много физического и душевного времени. На что тратила она свои дни? На любовь ко мне, к дому, собаке, кошке, саду, цветам. А любовь требует так много заботы, беспокойства, внимания, осознания себя самой, и Катя не отвлекалась ни на что постороннее».
Появилась служанка — большая, краснолицая, в хрустящем крахмалом фартуке, — позвала его обедать. Он поблагодарил и отказался. Кусок не шел в пересохший рот. Он терял вес с каждым днем. Легкость обхудавшего тела ощущалась как ослабление связи с землей и была неприятна. Иногда ему казалось, что голодание без голодных мук — хитрый способ дезертирства, замена короткого волевого жеста трусливо-щадящим истаиванием, растворением в пространстве. Думать об этом не хотелось. Он стал думать о служанке.