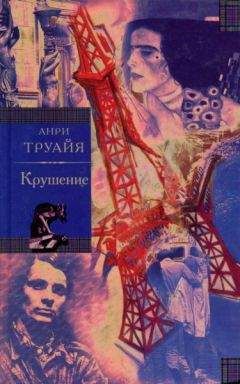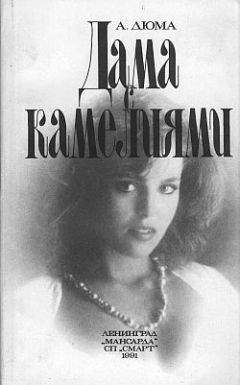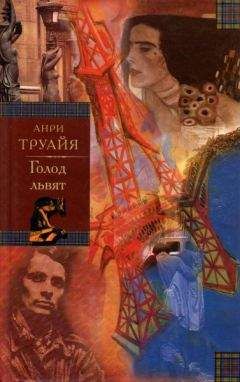Анри Труайя - Александр Дюма
В поисках ответа на этот мучительный вопрос Александр как-то бросил взгляд на список своих произведений. Каскад названий: несколько знаменитых, по большей части забытых всеми. Несмотря на внешнее разнообразие романов и пьес, ему хотелось найти в них какое-то общее направление, мысль, вдохновившую все его творчество в целом. Ему не давал покоя пример Бальзака, восседающего на пьедестале из томов своих сочинений. Желая приукрасить собственный образ, который он стремился создать у грядущих поколений, Дюма решил, будто и у него самого тоже, когда он писал, существовал грандиозный замысел, будто и в его творениях тоже всегда все было согласовано, все «сцеплено» между собой. Александр считал, что Бальзак живописно изобразил общество лишь одной определенной эпохи, а вот он сам, Дюма, таким же зорким и проницательным взглядом всматривался то в один, то в другой век. Бальзак показал горизонтальный срез всего человеческого слоя своего времени, он же показал срез вертикальный, проходящий через годы и режимы. Бальзак открыл французам глаза на них самих, он открыл соотечественникам глаза на их прошлое. Бальзак был сочинителем историй, он принадлежит Истории. «Бальзак создал великое и прекрасное творение с сотней граней, названное „Человеческой комедией“, – напишет он в 1856 году. – Наше творение, начатое одновременно с творением Бальзака и о котором мы, разумеется, не судим, могло бы в целом именоваться „Драмой Франции“[91]». Иными словами, по его мнению, одно другого стоило. Ему хотелось бы убедить в этом читателей, критиков и себя самого. Поставленная задача была тем более смелой, что с некоторых пор любой текст, выходивший из-под пера Дюма, становился всего лишь повторением прежнего. В собственную его голову ничего не приходило, и в поисках вдохновения он машинально просматривал листки с записями, которые приносили ему соавторы. Одно время подумывал написать исторический роман «Рене д’Аргонн», в котором говорилось бы о приключениях волонтера 1792 года и события начинались бы в день ареста короля Людовика XVI в Варенне. Решил даже отправиться на место событий, чтобы придать своему рассказу больше правдоподобия. Но ни посещение этих мест, ни расспросы окрестных жителей не помогли высечь желанную искру. Возвращаясь в Париж, Александр чувствовал себя выжатым и выдохшимся как никогда; надо бы отдохнуть за городом, чтобы проветрить мозги перед тем, как садиться за работу, это мне на самом деле необходимо, думал он.
Для начала навестил сына, который наслаждался безоблачной любовью со своей русской княгиней в Сент-Ассизе, поблизости от Мелена. Во время одного из беспорядочных разговоров, когда собеседники то и дело перескакивали с одного на другое, упомянул историю роялистского заговора, о котором когда-то рассказывал ему Нодье, заговора «Соратников Иегу» – его руководители были казнены в Бурге-ан-Бресс. Слушая отца, Александр-младший встрепенулся: мятеж вчерашних жертв после 9 Термидора, белый террор, самоубийственные подвиги – разве это не лучший сюжет, чем замысел «Рене д’Аргонна»? – и прямо сказал об этом отцу. Вот тут-то и произошла наконец долгожданная вспышка.
Дюма-старшего не пришлось уговаривать – мгновенно согласившись с сыном, отныне он только и говорил, что о «Соратниках Иегу», которые, по его заверениям, должны были встать наравне с «Тремя мушкетерами». Но железо следовало ковать, пока горячо. И вместо отдыха писатель отправился в Бург-ан-Бресс, исследовал место событий, подышал воздухом этих краев, изучил документы процесса и вернулся в Париж с богатым урожаем сведений, ни одно из которых не пропадет даром. Сочинять роман оказалось на удивление легко, и закончил его Александр, как и раньше, быстро. По счастливому совпадению, «Соратники Иегу» вышли из печати как раз тогда, когда начался процесс против Флобера и его «Госпожи Бовари», которую сочли безнравственной.
Однако осуждение романиста не только не уронило его в глазах читателей, но, напротив, лишь привлекло новых и принесло ему истинную славу. Прежде Гюстав был всего лишь известным писателем, теперь же сделался знаменитым! Обрадованный этим Дюма призадумался: а не следует ли и ему самому тоже напроситься на какой-нибудь шумный судебный процесс ради того, чтобы вернуть благосклонность публики? Все, что выставляло власть в смешном и унизительном виде, казалось теперь ему полезным для той битвы, которую вел он сам. Обреченный на жизнь лицом к лицу со сворой привилегированных, закосневших в эгоизме и лицемерии собратьев, он с каждым месяцем чувствовал себя все ближе к Гюго. Еще не решаясь присоединиться к первому бунтарю на его скале, он думал о том, что многие люди, многие его соотечественники были бы счастливы видеть двух величайших писателей братски объединившимися хотя бы на несколько дней, чтобы бросить миру как вызов свой отказ признать диктатуру. Да, да, именно вызов – и впрямь, какой вызов власти был бы брошен, если бы удалось устроить в Англии эту нашу встречу – встречу двух священных чудовищ!
Предлог для поездки нашелся быстро: вскоре в Великобритании должны были состояться выборы, и «La Presse» искала журналиста с громким именем, который мог бы написать отчет о событиях для ее читателей. Дюма не моргнув глазом предложил редакции свои услуги, и его предложение было принято. 27 марта 1857 года он выехал в Лондон. Стоя на палубе корабля, чьи колеса взрывали лопастями воду, Александр наслаждался двойной радостью: отмщения и избавления.
Разумеется, Дюма не предполагал подобно Гюго отрезать себя от родины, чью политику осуждал, но не мог же он не заметить, что тем не менее дышит, с тех пор как, оставив позади себя врагов из правительства, газет и салонов, устремился навстречу дружбе, несравненно свободнее! В конечном счете, думал путешественник, если он временно и покидает французов, то делает это исключительно ради того, чтобы вновь обрести вечную Францию.
Глава IV
Русская интермедия
Как ни подгоняло Александра нетерпение, как ни хотелось ему поскорее добраться до Гернси и поговорить с Виктором Гюго о событиях, происходящих во Франции, он считал себя обязанным в качестве корреспондента газеты «La Presse» прежде всего заняться английской политикой. Дело заключалось в том, что лорд Палмерстон, оказавшись в меньшинстве, распустил палату и снова созвал избирателей, и потому, словно бы вопреки закрепившейся за англичанами репутации флегматиков, в стране начались волнения. Едва приехав в Лондон, Дюма погрузился в бурные волны публичных собраний. Первый подсчет голосов его обрадовал, поскольку результаты, как ему показалось, свидетельствовали о высокой степени свободы совести у британских граждан, – тут в доказательство недоставало лишь избрания в Сити Лайонела Ротшильда, несмотря на его принадлежность к иудейской религии, которая помешала бы принести присягу на Библии. День за днем Александр добросовестно отправлял отчеты в редакцию своей газеты. Либеральное большинство откликнулось на призыв Палмерстона, и Дюма предвидел, что вскоре на него так и навалятся наиболее активные представители его клана, а значит, ему придется «скакать галопом по пути прогресса»… «Не знаю, имеют ли мои письма успех в Париже, – пишет он Эмилю де Жирардену. – Но в Лондоне они, замечу мимоходом, имеют огромный успех. Все газеты их перепечатывают, а на дверях любой читальни можно увидеть объявление: „Здесь читают письма Александра Дюма“. […] „Таймс“ оказал мне честь, предоставив свою первую полосу».