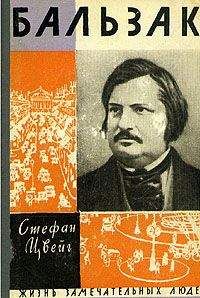Поэты, писатели, безумцы. Литературные биографии - Цвейг Стефан
В том и все великолепие стендалевского преимущества над всеми психологами, деловитыми и маститыми, что он предается этой науке сердца мудро, беззаботно и с наслаждением, как искусству, а не как серьезному профессиональному занятию. Он не только обладает мужеством мышления, как Ницше, но, при случае, и чарующим задором мысли; он достаточно силен и дерзок, чтобы вступить в игру с истиной и любоваться познанием с почти плотским сладострастием. Ибо духовность Стендаля не только рассудочна; в качестве подлинной и полновесной жизненной интеллигентности она напоена и пропитана всеми жизненными элементами его существа. В ней привкус теплокровной чувственности и соль острой иронии; сухая горечь переживаний пересыпана в ней перцем колющей злости; чувствуется душа, гревшаяся под солнцами многих небес, впитавшая в себя ветры всего обширного мира; чувствуется все богатство жадно открытой и в пятьдесят лет все еще не насытившейся и не увядшей жизни. Как пенится, обильно и легко, как искрится этот ум от переливающегося через край жизненного чувства! – и все-таки все его отдельные афоризмы – только разрозненные капли его душевного богатства, случайно выплеснувшиеся; а подлинная его сущность все время остается в нем, одновременно и огненная и ледяная, в тонко отшлифованной чаше, которую разобьет только смерть. Но в этих выплеснувшихся каплях – светлая и окрыляющая мощь духовного опьянения; они, как хорошее шампанское, ускоряют медленное биение сердца и поднимают падающий жизненный дух. Его психология – это не геометрический метод хорошо вышколенного мозга, а сконцентрированная сущность целой жизни, мыслительная субстанция одного из подлинных людей; это делает его истины такими правдоподобными, его взгляды – такими проникновенными, его домыслы – такими ценными и сообщает им, при их импровизированности, такую длительную прочность, – ибо никакое усердие в мышлении не даст столь полного жизненного охвата, как радость самопроизвольной мысли, как беззаветный задор свободно определившего себя ума. Все целеустремленное застывает в своей цели, все временное костенеет во времени. Идеи и теории, как тени гомеровского Аида, – только голые схемы, бесплотные отражения вовне; лишь тогда, когда напоит их человеческая кровь, приобретают они голос и плоть и могут говорить человечеству.
Самоизображение
Чем был я? Что я такое? Я бы затруднился ответить на это.
В своем поразительном мастерстве самоизображения Стендаль не имел других учителей, кроме самого себя. «Чтобы узнать человека, достаточно изучить самого себя; чтобы узнать людей, надо с ними общаться», – говорит он как-то, и тут же добавляет, что людей он знает только по книгам, что все свои наблюдения он производил единственно на себе самом. Стендалевская психология исходит неизменно от него самого и неизменно возвращается к нему. Но в этом кружном пути заключена вся область душевной жизни человека.
Первую школу самонаблюдения Стендаль проходит в детстве. Покинутый рано умершей матерью, страстно им любимой, он видит вокруг себя только враждебность и равнодушие. Он принужден прятать и скрывать свою душу, чтобы ее не заметили, и, благодаря постоянному притворству, рано постигает «искусство рабов» – ложь. Забившись в угол, молчаливый, таясь от грубых и лицемерных провинциалов, в круг которых он попал по какому-то природному недоразумению, он пользуется периодами своей мрачности и обиженности для того, чтобы выслеживать и наблюдать отца, тетку, гувернера, всех своих мучителей и угнетателей, и ненависть сообщает его взору злобную остроту, – ибо всякое одиночество делает человека бдительнее к себе и к другим. Так, еще в детском возрасте учится он злорадно подсматривать, безжалостно разоблачать, преследовать своим любопытством, – постигает все защитные приемы угнетенного, «рабье искусство» человека зависимого, который в каждой сети ищет петлю, чтобы проскользнуть, в каждом человеке – его слабость; короче говоря, он, прежде чем приобрести познания светские и деловые, приобретает познания психологические благодаря потребности в самозащите, понуждаемый своей непонятостью.
Вторая ступень для этого слишком уж рано подготовленного юноши длится, собственно говоря, всю жизнь; его высшей школой становится любовь, женщины. Давно известно – и сам Стендаль не отрицает этого грустного факта, – что, как любовник, он не оказался героем, завоевателем, победителем, и менее всего Дон Жуаном, каковым тем не менее очень охотно рядился. Мериме сообщает, что никогда не видел Стендаля иначе чем влюбленным, и, к сожалению, почти всегда несчастно влюбленным. «Почти всегда был я несчастен в любви», – приходится признаться ему; приходится признаться и в том, что «немногие офицеры наполеоновской армии имели так мало женщин, как он». При этом его широкоплечий отец и южанка-мать передали ему по наследству весьма осязательную чувственность, «un tempérament de feu», и взор его разгорается при виде женщины. Но хотя его темперамент и допытывается нетерпеливо относительно каждой, можно ли ее «иметь», и в бумажнике у него хранится бережно рецепт одного из товарищей по полку, как лучше всего побороть добродетель, хотя на вопрос одного из приятелей, как влюбить в себя женщину, он и дает бравурный совет: «Ayez-la d’abord» [200], – вопреки всему этому наигранному донжуанству Стендаль всю свою жизнь остается в любви рыцарем довольно печального образа. Дома, за письменным столом, вдали от поля битвы, этот типичный фантазер-сладострастник отличается в любовной стратегии («loin d’elle il a l’audace et jure de tout oser» [201]); он заносит в свой дневник день и час, когда, по его расчету, свершится падение его сегодняшней богини («In two days I could have her» [202]), но едва оказавшись в ее близости, этот Казанова тотчас же превращается в гимназиста; первая атака неизменно кончается (он сам в этом признается) крайне неприятным для мужчины конфузом перед лицом готовой уже сдаться женщины. В самый неподходящий момент какая-то досадная робость подавляет его прекрасный порыв; когда его галантность должна принять активные формы, он становится робок и глуп, впадает в цинизм, когда следует проявить нежность, и поддается сентиментальности перед самой атакой; короче говоря, благодаря расчетам и душевным задержкам он упускает удобнейшие случаи. И избыток, чрезмерная утонченность его восприятия делают его неуклюжим и неловким; в сознании своей застенчивости, боясь показаться сентиментальным и остаться в дураках, этот романтик некстати прячет свою нежность «sous le manteau de hussard» – под гусарским плащом сплошной грубости и солдатского обхаживания. Отсюда его «фиаско» у женщин, его хранимое в тайне и в конце концов разглашенное друзьями отчаяние.
Ни к чему не стремился Стендаль всю свою жизнь так страстно, как к легким любовным успехам, и ни к кому, ни к какому философу и поэту, даже к Наполеону, не питает он такого искреннего почтения, как к своему дяде Ганьону или двоюродному брату, вояке Дарю, которые обладали несметным числом женщин, не пользуясь какими-либо особыми психологическими приемами; может быть, именно по этой причине он им и завидует, ибо пришел постепенно к сознанию, что ничто так не тормозит реального успеха у женщин, как перегруженность чрезмерной впечатлительностью; «Успехом пользуешься у женщин только в том случае, если прилагаешь для победы не более усилий, чем нужно для выигрыша бильярдной партии», – внушает он себе в конце концов. Значит, и здесь, по его мнению, недостаток заключается в чрезмерно восприимчивой душевной организации, в избытке чувства, понижающем силу необходимого в данном случае напора: «J’ai trop de sensibilité pour avoir jamais le talent de Lovelace» [203]; он признает себя слишком тонко организованным, чтобы иметь большой успех в жизни и, в частности, успех в качестве соблазнителя, каковым он был бы в тысячу раз охотнее, чем писателем, художником, дипломатом Стендалем.