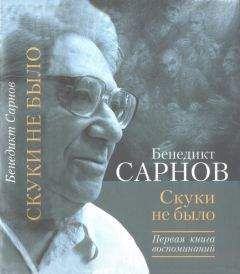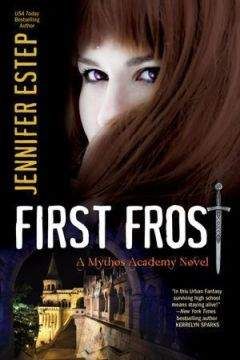Бенедикт Сарнов - Скуки не было. Вторая книга воспоминаний
Но для Биргера процедура исключения из партийных рядов была — выходом из боя. И цель его состояла в том, чтобы выйти из этого боя с минимальными потерями, сохранив при этом свое человеческое достоинство. Что же касается партийного билета, с которым ему предстояло расстаться, то на него ему было в высшей степени наплевать.
Для Балтера же предстоящий ему «процесс исключения» был продолжением боя. И он рвался в этот бой, заранее предвкушая, как и что он ИМ там скажет. Иногда в наших разговорах на эту тему (я его отговаривал, умолял не тратить на всю эту ерунду драгоценные нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются) в его речах даже мелькало гордое сознание, что именно он — настоящий коммунист, «а не эти бляди с партийными билетами».
Да, было у него тогда и такое самоощущение. Хотя, сознавая себя «настоящим коммунистом», он мог с веселой ухмылкой рассказать, например, такой анекдот.
В первые годы советской власти идут по Красной площади два еврея. Один — только что приехал в Москву из какой-то глухой провинции, а другой в Москве уже обосновался и вот показывает провинциалу разные столичные достопримечательности.
— Вот это Кремль, — говорит он. — Тут живет наше правительство.
— А зачем стена? — спрашивает провинциал.
— Я знаю, — отвечает столичный еврей. — Чтобы жулики не полезли…
— Оттуда? — кивая на Кремль, уточняет провинциал.
Напоминаю: время действия анекдота — начало 20-х годов, когда в Кремле, по логике Бориса, жили еще настоящие коммунисты, а не эти нынешние «бляди с партийными билетами».
Как-то там в его башке все это уживалось: и такие вот анекдоты, и самоощущение «настоящего коммуниста».
С этим своим самоощущением настоящего коммуниста он выступил однажды на большом открытом партийном собрании в Союзе писателей и сказал:
— Я сейчас поймал себя на такой мысли. Подняться на эту трибуну и честно сказать своим товарищам всё, что я думаю, мне труднее, чем бывало на войне, когда приходилось подыматься в атаку. Как же мы с вами, коммунисты, дошли до такой жизни?
Эту свою реплику он повторил и на том партийном собрании, на котором его исключали. И — пошел «на них» в атаку, дал «им» свой последний бой.
«Разоружиться перед партией», назвав того, кто дал ему подписать «антипартийное письмо», решительно отказался.
Сказал:
— Если я его подписал, значит, несу полную ответственность за всё, что там написано. Так что можете считать, что это я сам его и написал.
— Но вы признаете, что этот ваш поступок был политической ошибкой?
— Нет, — отвечал он, — не признаю.
— Выходит, значит, что ошибается партия? Так, что ли?
— Да, так. В тридцать седьмом посадили мою мать. И требовали, чтобы я отрекся от нее, осудил ее. И так же, как вы сейчас, говорили, что я противопоставляю себя партии, а партия всегда права. А через двадцать лет мне прислали справку, что моя расстрелянная мать реабилитирована «за отсутствием состава преступления». Так кто же тогда ошибался? Я? Или, может быть, все-таки партия?
Тогда его спросили: а как вышло, что ваше письмо, адресованное товарищу Брежневу, передавали по вражеским радиоголосам? Кто передал его текст за границу? Нашим врагам?
— А вот на этот вопрос я могу ответить, — сказал Боря.
Тут все необычайно оживились, потому что на этот вопрос не могли ответить даже те, кто полностью «разоружились перед партией» и этой ценой сохранили свои партийные билеты.
— Я даже могу назвать вам имя этого человека, — в наступившей мертвой тишине повторил Борис. И обернувшись к тем, кто вел протокол собрания, раздельно, чуть ли не по буквам, произнес:
— Луи Филипп!
Он имел в виду Виктора Луи, продажного журналиста, выполнявшего разные провокационные задания КГБ. Незадолго до того стало известно, что именно этот Виктор Луи передал на Запад сильно смягченный вариант книги Светланы Аллилуевой. А потом — тоже сильно искаженный вариант солженицынского «Ракового корпуса». Сделано это было, чтобы предотвратить — или хоть самортизировать — взрыв этих двух «идеологических бомб».
Идея Бориса обвинить в передаче на Запад текста нашего письма этого Виктора Луи — была совсем не глупа. Называя его имя, он как бы «им» говорил: да вы сами, ваши же люди и передали, чтобы изобразить наше искреннее стремление спасти честь страны идеологической диверсией.
Что говорить, мысль была хороша!
Но несчастная Борина привычка путать все имена (особенно иностранные: однажды в каком-то разговоре со мной он назвал Ролана Быкова — Роменом Ролланом) — тут его подвела.
Спутав фамилию кагебешного журналиста с именем давно умершего короля французов, Борис, конечно, слегка ослабил эффект своего разоблачения. Но многие из присутствовавших на том партийном собрании все-таки поняли, кого, а главное, — ЧТО он имел в виду.
* * *В своем отношении к родной нашей советской власти Боря был, пожалуй, радикальнее нас всех.
Однажды, например, в каком-то нашем споре он горячо защищал власовцев. И даже договорился до того, что было бы даже совсем неплохо, если бы в той войне Гитлер нас победил.
— Гитлера союзники все равно бы разгромили, — сказал он. — И Россия давно была бы уже демократической страной. Хотя нас с тобой при таком раскладе на свете уже бы не было.
Я сказал, что такое гнусное умозаключение я не желаю даже обсуждать. Тогда — в запале спора — Борис заявил, что он имеет право так рассуждать. Потому что — воевал. В отличие от меня, который «отсиживался в тылу».
Присутствовавший при этом споре тогдашний мой дружок и соавтор Стасик Рассадин (он был не на восемь лет, как я, а на целых шестнадцать моложе Бори) в ответ на это Борино заявление заметил, что если про меня, которому в сорок первом было четырнадцать лет, можно сказать, что я отсиживался в тылу, то про него, про Стасика в таком случае следует говорить, что он отсиживался на горшке.
После этого разговора мы со Стасиком стали время от времени поддразнивать Борю, вспоминая его героическую военную биографию. И однажды — в припадке юмористического вдохновения — обратили на него слегка перефразированное четверостишие Жени Винокурова.
В нашем перифразе оно звучало так:
Когда-то Боря Балтер
Командовал полком.
Он был лихим солдатом,
Крутым большевиком.
Нехитрая шутка эта нам так понравилась, что мы стали слегка злоупотреблять ею. С восторгом декламировали при всяком удобном и неудобном случае этот наш экспромт не только Боре, но и общим друзьям.
Всё это происходило в Дубултах, куда мы со Стасиком поехали вдвоем, чтобы всласть поработать. Месяц спустя, когда к нам приехали жены, там, в Дубултах, собралась уже целая наша колония: к нам присоединились Войнович, Аксенов, Фазиль. Вася Аксенов заглянул как-то в комнату Стасика, где мы работали, подошел к книжной полке, взял стоявшую там книгу Розанова, повертел в руках, поставил на место и задумчиво сказал:
— Бляди! Какую страну загубили!
Не выходя из состояния этой задумчивости, вернулся к себе и, присев к подоконнику, быстро, без помарок, написал — и в тот же вечер прочел нам — один из лучших своих рассказов: «Победа». Войнович тоже прочел нам тогда только что написанную первую главу своего «Чонкина». Фазиль делился замыслом своего — еще не написанного — «Козлотура».
Но всё это было позже.
А первый месяц в полупустом Дубултском Доме творчества мы жили втроем: Стасик, Боря и я. Особых развлечений у нас там не было, и мы со Стасиком развлекались тем, что дразнили Борю. К приезду друзей эти наши дразнилки уже обрели форму целой юмористической эпопеи. Разумеется, стихотворной.
Началось это так.
Однажды в столовой к нашему столику, где мы сидели втроем, подошел постоянно живший в Риге писатель Задорнов. Он спросил меня, не тот ли я Сарнов, который когда-то, в незапамятные времена, — году в сорок восьмом или сорок девятом — напечатал в «Литгазете» добрую рецензию на его исторический роман «Амур-батюшка». Я признался, что да, было дело. Мы несколько минут дружелюбно поговорили. Во время этой нашей беседы Боря иронически хмыкал и даже, как будто, потирал руки. А на другой день я получил письмо из Москвы от Алексина: у него было ко мне какое-то мелкое дело. Так появился у Бори еще один козырь в его игре против нас. И оба эти козыря были тут же им использованы.
На следующее утро, когда мы в очередной раз напомнили ему про его позорное прошлое «крутого большевика», он зазвал нас к себе в номер и объявил, что сочинил песню, которую сейчас нам споет. Взял со стола исчерканный и перечерканный вдоль и поперек листок бумаги (стихотворная форма, как видно, далась ему нелегко) и, заглядывая в него, спел такой куплет: