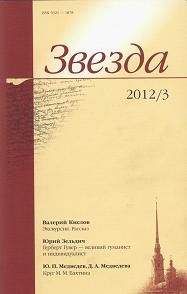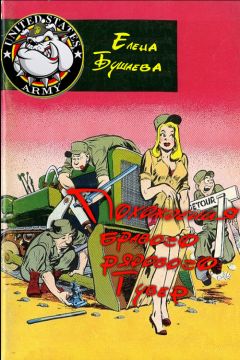Александр Кобринский - Даниил Хармс
Заработки у Хармса появлялись всё реже.
Очень похоже в это время разворачивается ситуация у Введенского в Харькове. В 1937 году Детиздат выпустил отдельным изданием его детскую книгу «О девочке Маше, о собаке Петушке и о кошке Ниточке», которую иллюстрировала Е. Сафонова, вместе с которой Хармс и Введенский были в ссылке в 1932 году. Неприятности у Введенского начались после того, как в шестнадцатом номере журнала «Детская литература» за 1937 год было помещено письмо «работников детских и школьных библиотек», озаглавленное «Вредные традиции в детской книжке». В этом письме, подписанном одиннадцатью фамилиями, говорилось, что книга Введенского «...не имеет ни познавательного, ни воспитательного значения. В самом деле, что это за семья советского летчика, в которой ребенок живет совершенно изолированно, удовлетворяясь обществом куклы, собачки и кошечки? ‹...› Книга Введенского настолько пуста и чужда нам идейно, что даже у самого нетребовательного читателя вызывает недоумение».
Уже в следующем, семнадцатом номере того же журнала книга Введенского фигурировала в качестве главного отрицательного примера в передовой статье М. Белаховой «За правдивость в книгах для дошкольников». Введенский вместе с Сафоновой были обвинены в намеренной асоциальности и в «возрождении традиции дореволюционной детской книги». «Введенский просто воссоздал идеал буржуазной девочки», — писала автор статьи. Особое же негодование вызвал у нее эпизод книги, в котором девочка Маша, выйдя на демонстрацию, из-за своего маленького роста увидела одни ноги. Сцена была объявлена издевательской, а в финале статьи — в согласии с формулировками того времени — предлагалось «ударить по рукам» и т. п.
Результат для Введенского оказался точь-в-точь таким же, как и для Хармса: его перестали печатать, что немедленно сказалось на материальном положении поэта. Осенью 1938 года он пишет новому директору Детиздата Андрееву: «Я имею семью (жену и двух детей) и т. к. моим единственным источником заработка является заработок литературный, а его в 38 г. почти не было (в плане не стояло ни одной моей книжки), то я вынужден был все продать с себя и сейчас мне не в чем выйти на улицу, и семья моя, и я голодаем».
Увы, несмотря на это письмо и заступничество С. Михалкова, с которым Введенский дружил, Андреев не только ничем не помог ему, но даже распорядился изъять из плана уже одобренное переиздание стихов Введенского. К счастью, договор на них уже был заключен и Введенский материально не пострадал, получив всю причитающуюся по нему сумму.
К Андрееву, который до своего нового назначения в 1938 году был директором Ленпищепромиздата, обращался и Хармс. Разговор этот произошел 24 марта 1938 года и, как и в случае с Введенским, ничего не дал. «Пришли дни моей гибели, — записал Хармс на следующий день. — Говорил вчера с Андреевым. Разговор был очень плохой. Надежд нет. Мы голодаем. Марина слабеет, а у меня к тому же еще дико болит зуб.
Мы гибнем — Боже, помоги».
Четвертого октября написано одно из самых трагических его стихотворений, которое Хармс включил в «Голубую тетрадь», придав ему тем самым характер особенно значимого:
Так начинается голод:
с утра просыпаешься бодрым,
потом начинается слабость,
потом начинается скука,
потом наступает потеря
быстрого разума силы,
потом наступает спокойствие.
А потом начинается ужас.
Видимо, в это же время Хармс делает перевод стихотворения немецкого философа и поэта барокко Магнуса Даниэля Омайса (1646—1708), которое как нельзя лучше подходило его тогдашнему настроению:
Пришел конец. Угасла сила
Меня зовет к себе могила.
И жизни вдруг потерян след.
Всё тише тише сердце бьется,
Как туча смерть ко мне несется
И гаснет в небе солнца свет.
Я вижу смерть. Мне жить нельзя.
Земля, прощай! Прощай, земля!
В 1937 году был также переведен и другой текст, который красноречиво свидетельствовал о трагизме душевных переживаний поэта и о его надеждах:
Как страшно тают наши силы,
как страшно тают наши силы,
но Боже слышит наши просьбы,
но Боже слышит наши просьбы,
и вдруг нисходит Боже,
и вдруг нисходит Боже к нам.
Как страшно тают наши силы,
как страшно!
как страшно!
как страшно тают наши силы,
но Боже слышит наши просьбы,
но Боже слышит наши просьбы,
и вдруг нисходит Боже,
и вдруг нисходит Боже к нам.
Этот текст неизвестного автора был положен на музыку любимым композитором Хармса — Иоганном Себастьяном Бахом.
Однако тяжелое финансовое и психологическое состояние Хармса в 1937—1938 годах хотя и наложило отпечаток на его творчество этого времени, но далеко не полностью обусловило его характер и тематику. В записных книжках этого периода встречается много размышлений о человеческой жизни и творчестве, об основах последнего, о том, что Хармс считал самым важным для себя. Так, к примеру, 31 октября 1937 года он формулирует основные положения собственной эстетики:
«Меня интересует только „чушь“; только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении.
Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт — ненавистные для меня слова и чувства. Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и восхищение, вдохновение и отчаяние, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, печаль и горе, радость и смех».
Не так просто выделить основные доминанты тех групп понятий, которые Хармс столь решительно противопоставляет друг другу. С некоторыми натяжками можно сказать, что ненавистны Хармсу оказываются те чувства и эмоции, которые либо продиктованы окружающими или общественным мнением (мораль, гигиеничность, нравственность), либо направлены на окружающих, будучи призваны создать у них определенное впечатление (геройство, пафос, удаль), либо просто зависят от ситуации или других людей (азарт). Чувства второй группы более самодостаточны, они независимы от внешних факторов или установлений. Замечательно, что Хармса совершенно не интересует этическая оценка этих качеств, он рассматривает их исключительно по критерию внутренней свободы человека. В конце 1936 года он создал набросок, в котором иронически выражает ту же мысль: прежде всего важен искренний и последовательный интерес. А на что он направлен — не так уж и важно:
«Я знал одного сторожа, который интересовался только пороками. Потом интерес его сузился, и он стал интересоваться одним только пороком. И вот когда в этом пороке он открыл свою специальность, он почувствовал себя вновь человеком. Появилась уверенность в себе, потребовалась иррудиция (так у Хармса. — А. К.), пришлось заглянуть в соседние области, и человек начал расти.