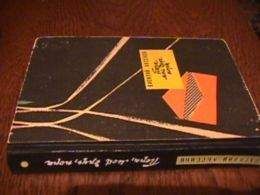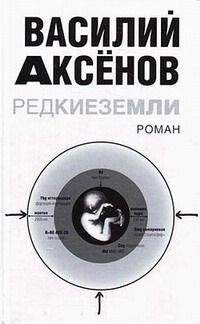Александр Кабаков - Аксенов
А.К.: Так и меня ведь он вполне имел право послать. Мне было стыдно навязываться, но я понимал — это мой последний шанс, другого не будет. Я знал, что он джаз любит, но он же писатель, у него времени нет по очередям толкаться. У меня первая мысль была — сохранить с ним отношения и водить его на джаз.
Е.П.: Зачем?
А.К.: Ну, потому что он — Аксенов.
Е.П.: Почему б тебе тогда было не водить на джаз Кочетова, Шолохова или Берды Кербабаева например?
А.К.: Потому что Аксенов был мой литературный кумир. А они нет. И на фига им был джаз? И сказануть: пусть мой кумир у себя в Союзе писателей билеты берет — я мог только будучи абсолютно невменяемым от власти. У нас в семье, я говорил, выписывали «Новый мир», «Октябрь», «Искусство кино» — любимый мной тогда журнал, потому что я же хотел стать киносценаристом… Когда появилась «Юность», первым моим потрясением была «Хроника времен Виктора Подгурского» (Анатолий Гладилин), вторым — «Продолжение легенды» Анатолия Кузнецова, третье потрясение — явление миру Василия Аксенова… Да. И вот я, значит, волею судеб знакомлюсь с кумиром. Держа себя в руках, выжидаю неделю и звоню Васе по телефону 159-75-75, кажется, туда, на Красноармейскую. Он говорит «приходите»… Мы были, конечно, на «вы». Я пришел, у меня была со мной юношеская повесть, которую я потом потерял и нашел лишь недавно. Называется «Родные и близкие», в смысле погребального приглашения «родные и близкие, подходите прощаться». Такая, ну… того времени повесть. Юношеская. Я пришел к Васе и стал читать ее вслух.
Е.П.: Ох ты, Господи Иисусе! Повесть? Вслух?
А.К.: Сидели на кухне, Киры и Алешки не было, я стал читать ему вслух и за час прочитал всю повесть. Вася внимательнейшим образом все выслушал и сказал: никогда по свежему следу не пишите, подождите, выждите, пока чувства немного остынут — это был единственный совет, который он мне дал, и вообще единственное, что он сказал после чтения. Надо отдать мне должное, ни разу в жизни я потом не последовал его совету… Ну, и после этого у нас отношения стали уже другими. Он как бы считал, что я как бы молодой писатель. А я ни хрена почти тогда не писал. Ну, вот эту повесть — и еще какую-то чушь: рассказики всякие…
Е.П.: Но ему ведь надо было тебя как-то идентифицировать. Или как инженера, или как фарцовщика, или как… молодого писателя.
А.К.: Пожалуй, он тогда плохо врубался в мою реальность. Я как-то ему пожаловался, что меня, наверное, скоро выгонят из инженеров, а он в ответ: «Хорошо бы вам пойти работать в журнал “Советский экран”». Я ему говорю: «Вы смеетесь? Кто это, интересно, меня туда примет, беспартийного еврея с техническим образованием, когда там очередь ВГИКовцев с дипломами стоит? Мне об этом можно так же мечтать, как о выигрыше в сто тысяч рублей, не купив лотерейного билета». Он этой стороны жизни тогда уже не знал, ему казалось, что вот можно позвонить кому-то там, своему приятелю, и устроить меня в журнал «Советский экран». Больше мы к делам не возвращались. Вот так, Женя. И следующие восемь лет наши отношения были простыми, я звонил и говорил: «Вася, пошли на концерт…»
Е.П.: На «ты» уже, что ли?
А.К.: С какого-то момента на «ты». Вася, говорю…
Е.П.: Не помнишь момент этот?
А.К.: Не помню абсолютно. Не сразу, очень не сразу мы на «ты» перешли. «Вася, — говорю, — через три дня концерт в ДК “Москворечье”, хорошие команды — поедешь?» — «Поеду». — «Ну, тогда встретимся возле телеграфа…» Он ехал со своего «Аэропорта», а я выходил из своего «Гудка». У телеграфа он меня подхватывал, и мы катили в «Москворечье». Это было… это были такие вот отношения. Практически до его отъезда. Все, я больше не заговаривал ни о какой литературе. Другое дело, что я и сам бросил тогда писать.
Е.П.: Позволь-позволь, что значит — бросил писать? А «Подход Кристаповича»?
А.К.: «Кристапович» был написан в начале — середине восьмидесятых. У меня и в семидесятых имелись юмористические рассказики, но их я ему не показывал. Даже когда один появился в «Литературной газете». Он случайно это обнаружил и говорит: «О, я видел, у тебя рассказ в “Литературке” напечатали». Я вяло отвечаю: «Ну да».
Е.П.: Он и сам на знаменитой шестнадцатой странице публиковался, в клубе «12 стульев».
А.К.: Тем не менее я прекратил с ним литературные отношения. Нас связывал только джаз. Вот моя любимая фотография, я ее уже вспоминал, где он, я и Леша Козлов — мы сидим втроем за столиком в буфете «Москворечья». «Москворечье», еще какой-нибудь ДК, джазовый концерт в Театре эстрады — вот наши отношения. Несколько раз я бывал у него дома, был знаком с его Кирой, разговаривал с маленьким Лешкой. Однажды оказался в весьма нелепой ситуации. Он позвонил мне, позвал в гости, я пришел с тогдашней недолгой моей женой. У него в огромном количестве паслись в тот вечер американские и английские слависты. А из русских были только мы с женой да Вася, а семья его была в отъезде. Все очень быстро напились огромным количеством красного вина из «Березки», и началась страшная ругань, потому что слависты все были леваки. Вася был в бешенстве от их взглядов и высказываний, но реагировал сдержанно. А я хорошенько поддал и попер на них, как танк, с воплями: «Раз вам так нравится советская власть — добро пожаловать в наш ГУЛАГ». И прочее в том же роде… И Вася смотрел на меня с некоторым ужасом. Позвал меня на светский прием, а я нажрался, как советский инженер, и попер антисоветчину.
Е.П.: Не помнишь, кто из славистов там был?
А.К.: Не запомнил ни одного имени… Был там один молодой парень, он, говорили, прославился потом, с такими длинными, косо свешивающимися волосами, с глубоким шрамом на лбу. Он стал меня упрекать: вот вы не выходите на улицы, не протестуете, а мне голову разбили полицейской дубинкой в шестьдесят восьмом году, когда были волнения в Кентском университете.
Е.П.: Кент — это в Англии, что ли?
А.К.: Кентский университет — это в Америке. Там в шестьдесят восьмом, когда студенты бунтовали по всему миру от Чехословакии и Парижа до Бёркли, было настоящее восстание, там полицейские даже убили одного человека.
Е.П.: А-а, вспомнил…
А.К.: Я же ему: тебе, говорю, мудаку, по лбу дали, но даже из университета не исключили, и сейчас у тебя все о'кей, а меня бы не только вышибли, меня бы тут же в армию загребли! Или в психушку посадили, или в лагерь отправили. Вот так я разорялся, и хорошо помню Васю, который сидел там, подпершись, как бабушка добрая, и с одобрительной, но несколько изумленной улыбкой любовался, как я, значит, это… выступаю! Тогда, если помнишь, так прямо определять свою позицию было не принято. Тем более публичному человеку, каковым Вася тогда был. А я был никто, шпана. Я был его джазовый приятель. Мне было можно.