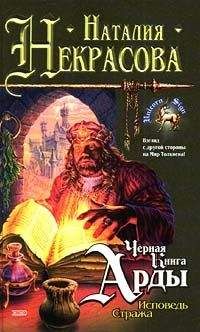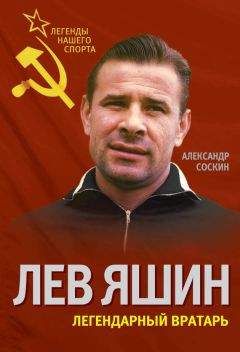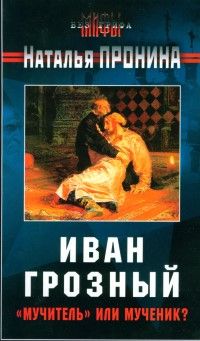Лев Копелев - Мы жили в Москве
1977 г.
ОНА ПРОНЕСЛА СВЕТ
О Лене Зониной в начале шестидесятых годов мы знали: отлично переводит французскую прозу, пишет талантливые статьи. Те, кто встречал ее, говорили: «Хороша собой, изысканно одевается, необычайно образована и дьявольски умна». А некоторые жаловались: «Высокомерная, светская дама, застегнута на все пуговицы, гордячка, иной раз таким холодом обдаст…»
Мы лишь постепенно, лишь когда стали друзьями, узнавали ее, историю ее трудной жизни, особенности ее душевного склада.
Ее отец Александр Ильич Зонин был участником гражданской войны, а потом одним из самых фанатичных РАППовцев. (Прочитав в 1983 году книгу о молодом Робеспьере, Лена сказала: «Точно таким был мой отец».)
Мать Виктория Львовна тоже была старым членом партии, одно время работала в аппарате МК. Мы ее застали гостеприимной хозяйкой, заботливой бабушкой, живо интересовавшейся всеми нашими делами и уже без следа партийности.
В ее комнате висел старый групповой снимок: Ленин с делегатами III съезда комсомола. Неподалеку от Ленина в мохнатой папахе сидел тонколицый Александр Зонин.
Лена родилась в 1923 году, дали ей имя «Ленина». Она себя так никогда не называла, подписывалась только «Л. Зонина».
Родители рано разошлись, она осталась с матерью, которая до смерти (1982) была ей ближайшим другом.
В июне 1941 года Лена была студенткой филологического факультета. Тридцать лет спустя, вспоминая о том, какое значение имел для нее Хемингуэй, она написала:
«В юности жизнь казалась прозрачнее, яснее, добро и зло были ясно разграничены. Я ЗНАЛА, КАК ЖИТЬ. И Хемингуэй совпадал с этим знанием, с этим внутренним императивом, который требует не слов, а поступков. Так, роман «По ком звонит колокол», прочитанный зимой 1941 года в Красноуфимске, при свете коптилки в халупе за кладбищем, был подтверждением того, что надо, нельзя не добиться, чтобы меня взяли в армию, на фронт (эвакуированных не брали). Нужно было быть, как Джордан. Нужна была во что бы то ни стало справедливость, справедливость была дороже жизни. А кое-что о несправедливости я уже тогда начала понимать, может быть, и не совсем как надо, но понимать».
Во время войны она служила матросом на боевом корабле Балтийского флота. Об этом мы узнали, когда уже несколько лет были дружны и заметили, как ловко она мыла пол в квартире: «Научилась, ежедневно драила палубу».
Флотское воспитание пришлось по ней. Ее комната, ее рабочий стол всегда были безупречно убраны; вещи, книги, рукописи расположены в неизменном, строгом порядке. К четкой упорядоченности стремилась она в отношениях с людьми. Не терпела переизбытка страстей, неумеренности излияний, откровенной чувствительности, хаоса в мыслях и чувствах. Она с юности вырабатывала в себе жесткую самодисциплину. И это стало основой и условием внутренней свободы, независимости от любых внешних влияний. Она не вступала в партию, как ни уговаривали ее отец и товарищи в разные годы, особенно во время войны. Когда отца в 1949 году арестовали, она не отреклась от него, не воспользовалась возможностью сказать правду, что с детства не жила с ним, редко встречалась.
Закончив университет, она, дочь «врага народа», не могла получить никакой работы, пока И. Эренбург не предложил ей быть его личным секретарем. Она проработала у него несколько лет, и позднее Эренбург нередко обращался к ней за советами, очень считался с ее знаниями, с ее мнениями. Она была из тех немногих людей, кого самоуверенный, высокомерный Илья Григорьевич не только уважал, но и несколько побаивался.
Мы не раз замечали, как естественно Лена отстаивала свое достоинство. Как несколькими словами или взглядом отстраняла попытки высокопоставленного чиновника или прославленного «деятеля искусств» разговаривать с нею свысока, командовать, либо фамильярничать. Так же независима и несуетна была ее внутренняя жизнь. Она не поддавалась интеллектуальным и эстетическим модам. Общепризнанные авторитеты, обожаемые кумиры вызывали у нее прежде всего скептическое недоверие.
Разные течения авангардистской литературы она исследовала пристально, беспристрастно. Но ей самой ближе была поэтика классического реализма, разумная ясность французского Слова. Она печально шутила, что в среде своих московских и парижских друзей и приятелей ощущает себя мамонтом.
Оставаться верной себе ей было трудно.
Трудно — это понятие неотделимо от Лены Зониной.
К ее пятидесятилетию (1973) Р. написала ей в письме:
«Я часто слышу вокруг жалобы на жизнь. И правда — жить нелегко. Нелегко и тебе — творческому человеку, тебе — прекрасной женщине, тебе русской интеллигентке еврейского происхождения в последней четверти двадцатого века. Но трудную свою судьбу ты несешь с благородным величием, с необыкновенным достоинством».
Ее рецензии и статьи, изящные, блестяще отточенные, словно бы легко, на одном дыхании написанные, создавались упорным трудом. Готовясь рецензировать один рассказ, она прочитывала все, что могла достать из произведений этого автора, его предшественников и близких современников. Она писала, отбрасывая один за другим варианты, подолгу искала наиболее точные, не обесцвеченные выражения, чтобы передать своеобразие именно этого писателя,
Переводы были для нее основным источником существования. Однако никогда не становились ремеслом. Она была воспитана русской школой художественного перевода. Для нее так же, как для Корнея Чуковского, Ивана Кашкина, Николая Любимова, перевод был «высоким искусством».
Когда она переводила Вольтера, она читала Державина, Фонвизина, Радищева, Новикова. Она жила в языке восемнадцатого века. В письме того времени: «Простите за множество архаизмов. Это Вольтер!»
А когда переводила Р. Мерля «За стеклом», роман о студенческих волнениях 1968 года — перечитывала ранние книги В. Аксенова, часами разговаривала с московскими студентами — сверстниками героев Мерля, составляла словари молодежных жаргонов.
В поисках одного слова или речения звонила друзьям и специалистам, проверяла свои находки.
В середине пятидесятых годов, когда начиналась оттепель, советским читателям и издателям были известны два современных французских автора Андре Стиль и Луи Арагон. О Сартре, о котором тогда говорили во многих странах, читатели советских газет знали только, что Фадеев назвал его «гиеной с пишущей машинкой».
Лена Зонина была одной из тех, кто начал пробивать железный занавес культурной изоляции. В 1955 году ее статья о романе Симоны Бовуар «Мандарины» была первой серьезной работой о новой французской литературе; она спокойно рассказала о том, что такое экзистенциализм, тогда еще официально считавшийся «идеологией империалистической реакции».