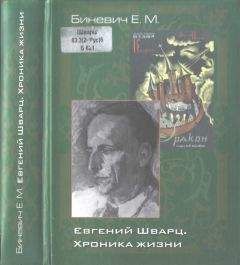Евгений Шварц - Позвонки минувших дней
Сама Верка заняла место у изголовья, все остальные стояли на почтительном расстоянии, в прямом смысле этого слова. Иные жались у стен, в испуге и растерянности. Анечка стояла в первом ряду пришедших попрощаться с маэстро, окруженная друзьями и уцелевшими учениками Казимира, некоторые из которых приехали из Москвы. Среди них Костя Рождественский. О нем трудно было сказать: уцелевший. Слово это как бы указывает на некоторую неполноценность. Ущербность. Какое там! Он стал куда крепче и еще осанистее, чем в 20–е годы. Его простоватое и благообразное лицо дышало благодушием, хоть и хоронил он друга. Прямо с похорон отправлялся он в Данию оформлять какую‑то выставку. Витебское умение побеждать и доказывать, что данный вид искусства является единственно советским, уцелело и процвело только в области оформления, и Костя Рождественский отныне оставался единственным его представителем. А маэстро лежал в белом гробу — любимый его цвет, Анечке удалось добиться этого. Страшный, как никогда, без признака благообразия, обычного у покойников. Лицо казалось маленьким, рот перекошенным. И тут же показалось, что он правдив, как и при жизни. Со страстью, с ужасом отрицал он смерть, умирая, и не скрыл этого, как ничего не скрывал, пока был жив. Умер без всякой мистики. Я, как всегда на похоронах, был в смятении чувств и потому холоден. За день до этого похоронил Тоню, что еще усиливало тупую холодность, с которой глядел я на происходящее. Но когда понесли гроб, белый, в цветах, к похоронному автобусу и художники высыпали на улицу, дрогнуло у меня сердце. Кроме Кости Рождественского и еще двух — трех, остальные походили на толпу нищих у церкви. Ободранные, облезшие, кто с перевязанной щекой, кто в ватнике, кто с перевязанным глазом, кто хромой. Тут были уцелевшие с веселого и боевого времени двадцатых годов, чудом уцелевшие, битые — перебитые левые художники. Ели да пили они теперь от случая к случаю.
Но еще больше собралось их гонителей, честно верующих в реализм в нынешней трактовке его; пожравшие, и поправшие, и побившие камнями леваков, но нисколько от этого не раздобревшие. Угрюмо и осуждающе глядели они на мир, смутно понимая, что, разрушив новое, не воскресили старого. И теперь готовы были они написать как нужно и что угодно, но ни заказов, ни приказов — один мрак на душе. В первый автобус возле гроба уложили часть венков, втиснулись близкие. И я решил проводить маэстро на кладбище, лучшая полоса моей жизни — конец двадцатых, начало тридцатых годов — была связана с ним. И я забрался в один из автобусов. На кладбище одни столпились у разрытой могилы, а я все с тем же смятением чувств присоединился к тем, кто остался на аллее. И Костя Рождественский, высокий, дородный и благообразный до того, что природная простоватость едва прорезывалась в большом лице его, милостиво приветствовал меня. Сказал: «И какой изящный!» Валя Курдов уклончиво и открыто, на восточный курдский лад, то взглядывая, то убегая от прямого взгляда, повел нас на могилу тестя, профессора Неменова, где на постаменте возвышался бронзовый бюст работы Сарры Лебедевой. И лица у художников стали непритворно строгими и внимательными. И они замолчали, как на молитве, обходя памятник со всех сторон. И почтительно похвалили бюст. И мы вернулись к могиле. И вдруг в конце аллеи показалась «Победа», такси, вопреки правилам несущееся под деревьями, мимо крестов и памятников. И затормозило такси возле нас. И оттуда по — старушечьи хлопотливо выбралась, чуть не вывалилась, старая еврейка, бабушка Нинки, и, переваливаясь, побежала к гробу. И с ходу завыла над ним, запричитала: «Что же это с тобой сделали». Пошла она обратно с Анечкой под руку.
И, несмотря на скорбное выражение, лицо бабушки сияло некоторым самодовольством. «Видите, как управилась! Это надо уметь!» Холмик над могилой был скрыт под венками, и мы ушли. И только через несколько дней в памяти моей воскрес живой маэстро с темным худым лицом и диковатыми глазами. Как прожил он жизнь — не мне судить. Все было. Зато не было равнодушия. Анечка ездит на кладбище. Поставила решетку. Добилась пенсии для Нинки. Добилась утверждения ее в правах наследства. Причем Верка вывезла на глазах у соседей ряд чемоданов с вещами, папок с рисунками маэстро и его полотна с женщиной как бы с подносом, склонившей печально овал головы без лица, но написанной в красках чистых и ясных, без мистики. И многие другие. А на заводе Верка распустила слухи, что Анечка вывезла все это, подобрав ключи. Быстрая, шустрая, уже не бледная, а светло — серая, продолжала Анечка борьбу за Нинкины права. Глаза у нее отекли, сердце сдавало. Но она отсудила ей отдельную комнату, и теперь, после ряда обменов, у девочки отдельная комната в 22 метра. Но живет она и у себя, и у Анечки, чтобы девочка не оставалась безнадзорной. Бабка ее, столь полная жизни, умерла недавно от рака. Работает Анечка на заводе. Встает чуть свет, чтобы успеть к восьми в село Рыбацкое, и возвращается темным вечером. И все полна забот о Нинке, о родном племяннике Димке, талантливом математике, поступившем в этом году в университет. Ей кажется, что мать лишает его уверенности в себе, развивает какие‑то комплексы. Она все ищет новых и чистых форм для фарфоровых чашек. Недавно московская комиссия признала лучшим ее проект фарфоровой люстры. И пьет Анечка травы, чудом открытые Кириченко (иначе не поверила бы, коли не чудом). Но едва доживает до отпуска, несмотря на это. В отпуск ездит она теперь на Черное море в Пицунду. И возвращается загорелая, полная рассказов, шустрая и до того быстрая, что недавно в спешке упала и сломала ребро.
Но в суете, в беспокойстве, в бегстве к врачу собралась она только недели через две, когда ребро уже само по себе начало кое‑как срастаться. Перемогалась, переносила боль, все такая же шустрая и веселая, как и при целом ребре. Вчера была она у нас, принимала ванну — она живет в мастерской, где ванны у нее не имеется. Пришла веселая, серая от усталости, с отекшими верхними веками, нависшими над глазами. Когда вышла из ванны, то словно после отпуска расцвела. Светлые ее, круто вьющиеся, жесткие волосы, подсохнув, гривой поднялись над лбом. И вся она сияла от оживления. Рассказала о Нинке, с которой поссорилась в воспитательных целях, а теперь помирилась. Помянула с глубокой верой Кириченко. Но спросила, не могу ли я устроить ее через Литфонд к Сорокиной, известной гомеопатке. Увидала фотографии скульптур Коненкова, и лицо ее приняло то самое выражение, что я так люблю у художников. Непритворно отреченное. Она замолчала, как верующий на молитве. И потом заговорила неясно, неточно, как всегда говорят художники. После завода, после работы, дома была все той же — ни признака слабости или усталости. Все та же Анечка, какую встретил 27 лет назад.