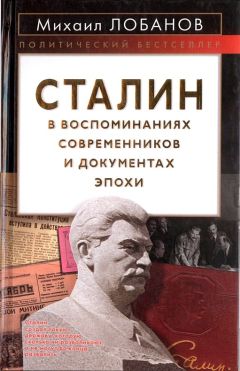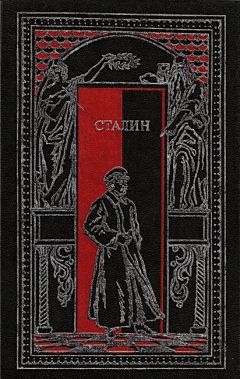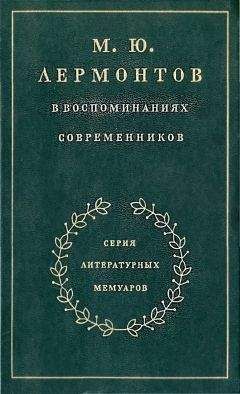Ростислав Юренев - Эйзенштейн в воспоминаниях современников
Одно тяжело: не так следовало бы Сергею Михайловичу говорить о Станиславском: огромная и непоправимая убыль, что Эйзенштейн не искал личной встречи со Станиславским, тогда он постиг бы, что Станиславский ему чрезвычайно нужен. Нашелся бы у них общий язык, разрешены были бы ими вопросы взаимосвязи формы и содержания, отношения между режиссером и актерами, естественности и сценичности.
Разве не было могучим в Станиславском чувство нового? Разве не у сердца Станиславского Мейерхольд нашел тепло и доверие? И право на труд?
Разве не Станиславский вернул ему творческую силу, веру в жизнь, в людей, отчаявшемуся Мейерхольду, художнику-новатору, потерявшему себя?
А как досталось в письме Эйзенштейна нам, «последователям учения Станиславского»!! К нам безжалостен Эйзенштейн: «Последователи К. С. помчались за пеной и в своем рвении так в пене и завязли. Даже не разглядев, что пена у них чаще всего мыльная, в лучших случаях пивная, и, увы! Никогда не пена великолепного бешенства!»
А вот слова, обращенные ко мне: «Из наследия К. С. Вам бы надо почитать главу о штампах, ибо весь «набор» в «Золотой палате» склеен из тех же «бирмановских» штампов, которые мельтешат в разговоре Ефросиньи с Курбским».
Не препираюсь с Сергеем Михайловичем — он в полном праве был требовать от меня — «актрисы, которая уже, слава богу, успела выйти из пеленок», — творческого воплощения Ефросиньи Старицкой. Я не виню Эйзенштейна-постановщика, я печалюсь о тех условиях, в каких пока актерам в кино приходится работать. Самое невыносимое то, что загримированное лицо и костюмированное тело его показывается миллионам зрителей раньше, чем расшифровывается актером внутренний мир образа.
Штампами отвечает актер в ответ на насилие над его творческой природой.
Даже хлеб нуждается в последовательности процессов с мукой, дрожжами, солью или сахаром, чтоб получилось тесто. И требуется огонь, чтоб тесто превратилось в хлеб.
Разве я стала бы с Эйзенштейном говорить о Станиславском и мировом значении его системы, если б хоть тень усмешки или недоверия промелькнула в его глазах??
Гласом вопиющего в пустыне звучат вопросы Эйзенштейна в письме к актрисе Бирман, стремящейся воплотить Ефросинью Старицкую в его фильме «Иван Грозный».
Где боярыня?
Глава рода?
Где каменная баба?
Где царственность?
Где матриархат?
Эти законные требования режиссера и автора сценария били бы больно по сердцу актрисы, если б… если б не следовала за этими вопросами в самой непосредственной близости фраза: «Почему-то в последних съемках в соборе это все получилось…»
Не помню, чтоб было много репетиций перед съемкой сцен Ефросиньи в соборе. Помню договоренность об этих сценах с Сергеем Михайловичем. Пожалуй, это было в первый раз, когда без табели о рангах, а на равных договаривались режиссер и актриса перед репетицией, договаривались до съемки, а не спорили во время нее. Но самое главное было то, что эпизоды, какие предстояло заснять, были лучшими страницами сценария Эйзенштейна.
Эх, кабы можно было начать жизнь этой женщины сначала!
Не своими ногами идет Ефросинья за судьбой матери царя Владимира, а ведома, влекома к этой высоте жизненного положения страстью властвовать. Не пропала бы тогда сцена с Курбским, иначе бы тянулась рука, устанавливающая чашу с ядом, чтобы лишить жизни Анастасию, счастья — Ивана. Лишь бы себе да сыну счастья достать!
Не было бы в «Золотой палате» «постыдного рецидива, недостойного памяти Вашего кумира, все того же Константина Сергеевича», — ну да что же! — необратимо ушедшее время.
Есть сцены, которые не следует репетировать, а выразить их надо с маху; как чувствуется, так и скажется.
Удивительно счастливо, что на затяжные репетиции этих моих сцен в соборе не было времени: из Москвы пришло извещение, что в такой-то день в Алма-Ату прибудет комиссия Кинокомитета с целью ознакомиться с ходом работы над «Грозным».
Комиссия не располагала временем, и в день ее приезда Эйзенштейн назначил съемку моих сцен (ведь он знал, что, в частности, интересовались и тем, как именно я справляюсь с ролью).
Таким образом, предстоящая съемка решала вопрос, кто был прав: Кинокомитет, отвергавший меня, или постановщик, пошедший наперекор мнению начальствующих лиц?
Перед самой съемкой, когда я стояла у выхода, Сергей Михайлович, с виду совершенно спокойный, подошел ко мне и… скептик, насмешник… перекрестил меня.
Правильно поступил: передал мне в руки ответственность за сцену. Я не протестовала.
Хочу, чтобы правым оказался Эйзенштейн.
Хочу, чтобы мной не бросались, как актрисой!
А главное, во мне был тот творческий подъем, который заставляет забыть все мелкое, личное, самолюбивое.
Тишина! Мотор!! Съемка!!!
Удивительное дело, ведь репетировала я властную женщину, искала «царственность» и «матриархат», а перед тем, как ворваться в собор, все мгновенно перерешилось во мне: я поняла — грешница я, Ефросинья, но кончается хождение «мое» по темным тропинкам коварства, обмана, предательства, преступлений.
За тяжелыми дверьми собора ждет «меня» счастье свершения всех моих страстных стремлений; сейчас утолится материнская жажда увидеть царем сына, себя — Матерью Царя.
Ждала счастья безграничного эта женщина, с душой как бор дремучий, а нашла казнь смертную: нет! Не «умер зверь»! Вот он стоит перед Ефросиньей, глазам своим не верящей. Он стоит. Он живой. Такой высокий, в черной рясе. Такой грозный.
В Ефросинье все смешалось: Иван живой, а где же?.. Озирается она: кто это? Кто этот недвижный на камнях собора? Лица не видно — приник к камням. Он в царском облачении? Что остановилось «мое» сердце? Нет! Нет! Нет! Не хочу! Спасите!
Опускается на колени: «Богородица!» — молит спасти. Пусть отведет от «меня» смертное горе! Да минует «меня» чаша сия!
Ждет… Что же ты?
«Пресвятая!!» Но в интонации этого слова уже не мольба, но угроза ослушнице.
Миг промедления смерти подобен.
Ни мольба, ни угрозы не помогают…
Медленно, медленно поднимают руки недвижное тело — хитрит душа, отодвигает неизбежное… Хоть на миг еще — не знать! На один, один миг!
Тело, и сейчас послушное рукам матери, будто тянется к ней, и вот лицо Владимира, его глаза!.. Удивительные глаза в тот момент были у Кадочникова! Открытые, но глядящие из какого-то другого мира, куда он так внезапно попал, и потому такие равнодушные ко всему, что делается здесь, на земле…
И зачем его делали царем? Он совсем не хотел этого. Он был «дитятей», взрослым ребенком. Он хотел жить мирно. Без козней. Без убийств. Он просто хотел жить. А его толкали на царство, вот и толкнули в «царство небесное».