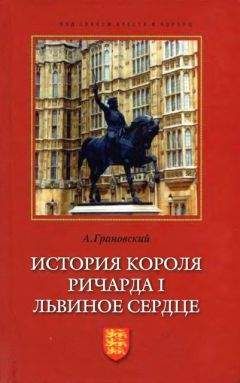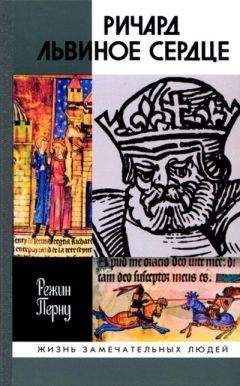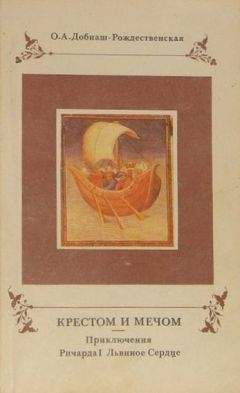Николай Оцуп - Океан времени
Его деятельность, его поведение отмечены тем знаком прочности и добротности, о которых говорит Толстой, описывая английскую обстановку Вронского. От довольно частых и разнообразных встреч с Замятиным у меня осталось именно такое впечатление.
Заведующий хозяйством Дома Искусств созвал на экстренное совещание писателей и предложил им утвердить меню обеда в честь Уэллса. Накормить английского гостя можно было очень хорошо (чтобы пустить ему пыль в глаза, Петрокоммуна готова была выдать лучшие продукты). «Совещание» этот план отвергло: пусть знает Уэллс, как питается русский писатель:
Ведь носящему котомки
И капуста — ананас,
Как с прекрасной незнакомки,
Он с нее не сводит глаз.
Да-с!
Принято было, среднее решение: пира не устраивать, но и голодом Уэллса не морить.
Банкет, не поражавший ни обилием, ни бедностью стола, был зато очень богат странными для иностранного гостя речами.
Шкловский, стуча кулаком по столу и свирепо пяля глаза на Уэллса, кричал ему:
— Передайте англичанам, что я их ненавижу.
Приставленная к Уэллсу Бенкендорф мялась, краснела, но по настоянию гостя перевела ему слово в слово это своеобразное приветствие.
Затем один почтенный писатель, распахивая пиджак, заговорил о грязи и нищете, в которых заставляют жить русских деятелей культуры. Писатель жаловался на ужасные гигиенические условия тогдашней жизни.
Речь эта, взволнованная и справедливая, вызывала все же ощущение неловкости: равнодушному, спокойному, хорошо и чисто одетому англичанину стоило ли рассказывать об этих слишком интимных несчастиях. Гумилева особенно покоробило заявление о неделями не мытом белье писателей. Он повернулся к говорившему и произнес довольно громко:
— Parlez pour vous! (Говорите за себя (фр.))
Но вот поднялся Замятин. На чистом английском языке, спокойно и ясно, без преувеличений, сказал он речь о литературных заслугах Уэллса, о мировом значении английской культуры, о ценности того, что лежит в ее основе, и чего, к сожалению, еще не научились любить и воспитывать в России.
В ужасных условиях советской жизни Замятин стал живым примером выдержки и дисциплины. Это почувствовали сразу его ученики, полюбили его, поверили ему. Мне пришлось однажды присутствовать на практических занятиях в студии Замятина. Народу было не меньше, чем у Чуковского, Шкловского и другие занимательных лекторов. Замятин не заботился о блеске и увлекательности изложения. Он хотел одного: принести как можно больше пользы своим ученикам.
Многие его советы очень спорны, но им следовали, и не без успеха. Достаточно сказать, что все «серапионовцы» — ученики Замятина.
Подводить итог деятельности живого писателя — занятие рискованное. Фет в конце жизни написал лучшие свои стихи. А сколько обратных примеров: сколько случаев медленного угасания творческих сил, постепенной и непоправимой утраты прежних дарований!
Со времени лучших успехов Замятина и полного признания этого писателя прошло уже не менее восьми лет. Выдержал ли он это испытание?
Нет, пока не выдержал… Лучше «Уездного» или «На куличках» Замятин ничего не написал, выше прежнего уровня не поднялся, скорее наоборот: став еще более искусной, проза его утратила едва ли не самое ценное — жуткий, вполне замятинский лиризм, близкий, по-моему, не к ремизовскому, как это пишут многие критики, а к сологубовскому.
С Ремизовым у Замятина сходство чисто внешнее. Автор «Уездного» любит, конечно, старую русскую речь, нередко у него встречаются, такие слова, как «бесперечь», «неслух»… Но т, что у Ремизова неотделимо от его стиля, у Замятина только «украшает» рассказ… Нет, лучшее у него не язык, а что-то другое.
Лучшее у него, как у Сологуба, та жестокая сила в описании человеческой глупости, та беспощадная ясность в описании бытовых сцен, которые заставляют читателя искать выхода, жаждать свежего воздуха, «мечтать о крыльях».
Вот этого чувства последние рассказы Замятина уже не вызывают. Все его Барыбы, Глафиры, Варвары — какая-то очень своеобразная и вполне самостоятельная параллель страшным образам «Мелкого беса». Но… чем дальше, тем бледнее замятинские герои.
Что же остановило его рост? Неужели учительство? Стоило бы поговорить когда-нибудь серьезно о том, как много внутренней энергии поглощают у «метра» его усилия научить других навыкам и приемам своего ремесла. Даже у сильнейших всероссийских метров последних десятилетий — Вячеслава Иванова, Брюсова, отчасти у Гумилева — их «педагогическая» деятельность отняла что-то, в каком-то смысле ослабила собственное их творчество.
Кажется, и Замятин не избег участи своих выдающихся предшественников.
На интимном вечере «Всемирной литературы», после удачной литературной шутки, сочиненной и прочитанной Замятиным, Чуковский подошел к писателю и, который раз, сказал ему:
— Восхищаюсь вами. Какой вы талантливый, какой настоящий!
«Новому Гоголю», как назвал его недавно тот же Чуковский, оставалось только поблагодарить за лестные слова.
А через несколько дней, в «Накануне», Алексей Толстой опубликовал печально-знаменитое письмо Чуковского, где он писал, между прочим:
«Здесь нет настоящей литературы. Замятин? Но какой же он писатель? Это — чистоплюй».
В железные годы военного коммунизма сколько людей известных и уважаемых совершали вольные и невольные ошибки против совести, заигрывая с большевиками. Замятин был среди людей политически безупречных. Брезгливый и сдержанный, никогда не сделал он жеста, похожего на низкопоклонство.
Всегда верный себе, он оставался одной из немногих достоянных величин среди множества переменных. Сколько писателей, сравнив свое поведение с замятинским, могли бы безошибочно определить степень своего отклонения от верного и прямого пути.
С первой партией высланных литераторов в Берлине ждали и Замятина. Все знали, что и он был арестован. Знали, что и ему, как другим, хочется воздуха Европы. Не знали только, что этот европеец сильнее, чем многие, привязан к России. Когда, благодаря хлопотам друзей и учеников, ему предложили на выбор уехать или остаться — Замятин предпочел остаться.
Для творчества его этот выбор не оказался благотворным. Зато влияние его на молодых прозаиков стало еще более значительным.
Не так давно советский беллетрист В. Лидин собрал и выпустил отдельной книгой автобиографии современных писателей. При всех недостатках этого сборника он любопытен как документ эпохи. Особенно интересны свидетельства о себе тех молодых и немолодых авторов, которые только «в грозе и буре угадали свое писательское призвание».