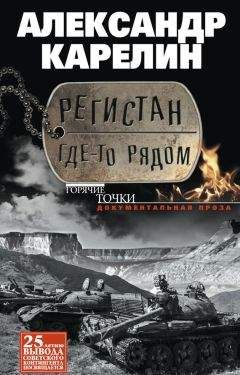Владимир Стасов - Училище правоведения сорок лет тому назад
Чтоб кончить с этой противной историей, я скажу еще, что не долго спустя С-кий и В-ккй вышли из училища — их взяли родители. Первый служил потом, и с почетом, губернским предводителем, второй — в артиллерии. К чести нашего начальства надо заметить, что уже и в первые четыре года существования училища розги употреблялись у нас все реже и реже. Начиная с 1840 года о них можно было услыхать уже в кои-то веки!
Самое тяжкое наказание по училищу, нечто вроде тамошней «смертной казни», было исключение из училища. На нашем воспитанническом языке мы называли это дело гораздо проще и ближе: мы говорили «выгнали», «выгоняют», «выгонят» такого-то — и действительно, это выражало то, что в самом деле было, а не то, что так мило и невинно обозначает фарисейски-канцелярское «исключили». Что за проклятая, что за сумасбродная это была система «выгонянья» того, кто проштрафился, по понятию начальства, очень тяжко! Но ведь воспитательные заведения на то и существуют, чтоб развивать и воспитывать (на что же иначе и «воспитатели»?), поправлять и возвышать, а не на то, чтоб только радоваться на образцы совершенства, премудрости и знания. Начальствам не приходит в голову, что если уже надо делать непременно выбор между теми, кого крепко сохранять у себя и с кем расстаться, то уж, конечно, их обязанность раньше всего — ни за что не выпускать вон, ни за что на свете не «выгонять» тех, кто «худо учится», кто «мало способен», кто «худо ведет себя». Во-первых, сто тысяч раз уже оказывалось на деле, что так называемые «худо учащиеся», «худо ведущие себя» — они-то потом и выходили самыми даровитыми, самыми способными, самыми полезными людьми, иногда истинными историческими личностями и деятелями, — но этого никогда не случалось с теми посредственными тупицами, которые так нравятся высшему начальству и по своему учению, и по своему поведению, которые обыкновенно получают все награды, все поощрения, все медали и чаще всех остальных красуются на «золотых досках». Во-вторых же, пускай мальчик или юноша и в самом Деле худо учится и худо «ведет себя». Так что ж! Лучше выпустить вон из училища кого угодно, самых лучших, самых способных, самых талантливых — те и без вас найдут свою дорогу и добьются того, к чему влечет их натура. Ваше дело — помогать слабым, облегчать работу малоспособным, преподавать им самые верные и надежные способы учения и образования. А то-«выгнать! выгнать!» Как это легко, но как это тоже и безумно! После этого недостает только еще того, чтоб ортопедические заведения именно прогоняли от себя прочь горбатых и кривобоких, глазные лечебницы — кривых, косых и слепых, больницы — страдающих горячкой и тифом. Чистый сумасшедший дом!
Я помню, в числе «выгнанных» в мое время был один граф Толстой, красавец, молодец, лихой, славный мальчик. И за что его «выгнали»? За то, что он украл у товарищей сначала несколько карандашей, книжек, бумаги, потом никому ни на что не нужных медных жетонов от игры «ломбер» (и на что понадобилось которому-то нашему мальчику привезти из родительского дома в училище!), наконец, украл у кого-то из нас два серебряных рубля, которые спустил потом, когда начались розыски, в трубу ватерклозета. Но их оттуда, конечно, легко достали: труба была с загибающимся вверх коленом. У нас не посмотрели на то, что граф этот был богат, что отец давал ему денег целую кучу, что у него были давно уже у самого часы, что таких жетонов он мог бы сейчас достать себе, не кравши, хоть целый сундук, значит, эти кражи его были только какою-то странностью, временным детским уродством, болезнью — нет, ничего этого у нас не подумали и не поняли, и красавчика графа Толстого — «выгнали»! Зачем? На что? Никто не справлялся об этом из высших, зато сколько спрашивали и толковали между собою мы! Графа Толстого увели из нашего класса, а что дело кончится плохо, мы это знали уже наперед из того, что директор Пошман не кричал и не бранил графа — это всегда был самый дурной знак. Его, значит, так-таки прямо повели в училищный лазарет, всегдашнее место «предварительного заключения» перед тем, что «выгонят». С того дня мы графа Толстого так никогда больше и не видали. Много лет спустя, правда, мы слыхали, что он сделался великим франтом и мотом, разъезжает по Невскому на великолепных рысаках, на санях, выложенных слоновою костью и перламутром, с полостью из меха каких-то драгоценных зверей, живет с знаменитой петербургской красавицей, актрисой Михайловского театра Дегранж, но все это легко могло совершиться и без «выгнания» из училища, примеров столько. А все-таки ничего худого о нем никогда мы не слыхали, и все-таки «выгонять» его из училища не надо было. Пусть бы нас спросили, мы наверное сказали бы: «Не надо, не надо»! Ведь суд товарищей наверное всегда справедливее, дальнозорче и глубже, чем суд самого превосходного, самого «умного» и самого «опытного» начальства. У отроков и юношей чувство справедливости еще ничем не затемнено и не загромождено.
Те наказания, которыми распоряжались сами «воспитатели», были гораздо кротче и милее, но столько же нелепы. То нас лишали последнего блюда, то и вовсе ничего не давали есть за обедом или ужином, а то еще нас выставляли «к столбу». В те времена еще не приходило в голову начальствам, что человек может шалить и делать разные глупости, а есть все-таки должен, тем более что наши обеды были вовсе не так богаты и обильны, чтоб из них можно было что-нибудь убавлять. А те, кого ставили «к столбу» (или, точнее, просто к стене, потому что в столовой, где эта мера практиковалась, никаких столбов не было) ничуть не предавались ни раскаянию, ни каким другим печальным размышлениям: они только с внутренней досадой на «мучителей» поглядывали по сторонам и ждали, скоро ли обед кончится, — вот и все! Стоило ли после этого и выдумывать-то все такие глупости?
К числу других еще изрядных нелепостей нашей тогдашней жизни принадлежало кормление нас постным кушаньем по средам и пятницам. Кто это выдумал, я уже и не знаю, но это было тем несообразнее, что постничанье, в течение круглого года, нигде более не было тогда в употреблении в целой России, в дворянских семьях, и существовало только у купцов, мещан и крестьян. Неужели надеялись, что и к нам привьется этот археологический курьез? Мы от всего сердца посылали эту неумную затею ко всем чертям. Не было такой среды и пятницы, которую мы бы не бранили с утра до вечера, потому что, наконец, даже просто голодали в эти дни: никому не было охоты питаться отчаянными грибными супами и селедками невиданных размеров, чуть не по V2 аршину, какими угощал нас в эти дни наш эконом, бывший капитан Преображенского полка, из солдат, Иван Кузьмич Кузьмин, с чухонским раздавленным лицом и круто нафабренными усами. Высшее начальство всегда «пробовало» это кушанье и видно не находило его невыносимым. Наши же «воспитатели», должно быть, думали иначе, потому что должны были обедать с нами и быть сыты тем же, чем и мы: они стали позволять, сначала то одному, то другому из нас в среду и пятницу посылать в булочную Вебера за выборгскими булками и кренделями (тогда очень знаменитыми); скоро это позволение стало распространяться на целые десятки воспитанников, на целые классы, и под конец все училище, почти сплошь, питалось в постные дни самыми скоромными и аппетитными печеньями. Наедались гораздо больше, чем в остальные дни недели, на целых 24 часа вперед. В среду и пятницу, по утрам, все училище только и думало, скоро ли кончится класс и солдаты явятся с закрытыми корзинами? Многие раньше звонка начинали уже выбегать из класса и заглядывать на площадку лестницы: не принесли ли уже? Один раз на все это крепко рассердился преподаватель гражданской практики в высших классах, помощник статс-секретаря в государственном совете, Яковлев (тот самый, у которого хорошенькая жена сбежала с офицером после 16 лет самого дружеского и добродетельного супружества) — однажды ужасно рассердился он на всю эту процедуру, остановил свою лекцию и, словно окрысившись, заговорил: «Что это в нашем училище происходит по утрам в среду и пятницу! Ходят стаями, таскают булки сотнями! Ни на что не похоже! Профессора и не слушают!» — и долго не мог успокоиться и продолжать лекцию.