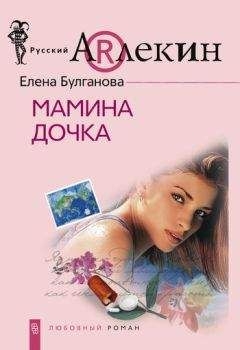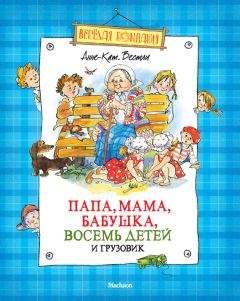Елена Тренина - “С той стороны зеркального стекла…” Из воспоминаний
Я на днях написал еще письма: Чагину с требованием гонорара и Скосыреву и Стийенскому, чтобы они поддержали меня. Чагин печатает три книжки в моих переводах (в том числе „Волшебные гусли“) и должен деньги — тысяч 15 — может быть, меньше, а скорей всего, больше. Если ты еще не писала ему, то напиши, что у тебя нет денег, так же как у детей, и пусть он высылает поровну на два (твой и детей) адреса.
Как мне ты представляешься хорошо сейчас. Верно — ты в сером пальто, что мы шили в литфондовской мастерской, — не могу вспомнить фамилию закройщика, и в черной шляпе, да? Каким давним мне кажется все, что было до тех пор, как я в армии, а прошло всего четыре — пять месяцев. А помнишь, как мы на Волге жили с тобой, как нашли заброшенную деревню, из которой все переехали. Когда строили канал Волга — Москва: помнишь, как варили мокрый чай. Как давно, давно, словно 40 лет тому назад все это было. А то, что мы ссорились, бывало, — это я вспоминаю, сердясь на себя, удивляясь твоей доброте. А потом я лежал еще в больнице в Ленинграде, а потом жил в Европейской, и ты позвонила по телефону, и я приехал, и был такой счастливый. И потом еще, позже, когда я убежал к Верховскому, а потом мы опять были вместе — и это вместе и было счастье, а я этого не знал. Если это повторится, ВМЕСТЕ, я буду уж знать, что это счастье, потому что война многому, очень многому меня научила. А когда кончится война, и эти проклятые немцы будут побиты так, что это будет наша окончательная победа, если будет все хорошо со мной — мы никогда не будем разлучаться. Мы, пожалуй, переедем из Москвы куда-нибудь к морю, будем жить в маленьком доме из белого известняка на берегу моря, в Крыму, или на Кавказе, а когда захочется — раз в месяц, или два, приезжать в Москву, и будем разводить розы и лежать на солнце; зимой не будет так холодно, как бывало в Москве. Я буду писать стихи и длинные поэмы — разные морские истории. У нас будут знакомые, и библиотеку мы перевезем из Москвы, книги будем выписывать, заведем еще все, что ты захочешь, и если ты захочешь, чтобы Александр Гаврилович <отец А. Бохоновой-Тарковской> жил с нами, то так и будет. А я уже совсем старый[1]) и очень тихий, очень спокойный. Здесь у меня совсем прошли всякие нервные болести, я совсем железный, хотя все, что я видел, и то, в чем принимал хоть не активное, а пассивное участие — должно было бы подействовать иначе. Я очень загорел уже, у меня совсем черная физиономия и походка у меня молодецкая: раз-два, раз-два!
Мы все уверены в том, что немцев победим непременно, только мнения у нас иногда расходятся: когда? Расхождения — на несколько месяцев в ту и другую сторону. Что касается судьбы нашей и их — то война — выиграна нами. Если бы только всем нам увидеть победу окончательную и мир! Я бы не хотел возвратиться домой раньше этого, я стал совсем спицей в колесе и чувствую себя на месте и знаю, что приношу какую-то пользу, потому, что бойцы часто носят с собой вырезки из газет с моими стихами — главным образом — смешными.
А ты далеко-далеко, и так близко: во мне. Когда я сплю, я часто вижу во сне, что никакой войны нет, подробностей снов я теперь никогда не запоминаю, — проснусь — смотрю, а тебя-то рядом и нет, только словно какой-то следочек от тебя еще остается, вроде как ты вздохнула — а я проснулся, или ты вздохнула, и это еще у меня.
Когда ты получишь это письмо, напиши мне, что на него отвечаешь, и опусти в ящик ответ поскорее, и напиши мне, что ты еще помнишь меня, потому что мне нужно думать, что ты не забыла меня и вспоминаешь.
Я достал случайно (выменял) пластинку „Дождь идет“, которую мы слушали вместе, и на днях ходил в политотдел, там есть патефон, с пластинкой, все заводил ее — раз 6 — и это было совсем как с тобой.
Напиши мне, моя родная, моя любимая, напиши мне большое письмо с подробностями, а я буду ждать его терпеливо-терпеливо, и думать о тебе так же, как всегда: с нежностью и любовью, которой ничто не преграда, даже если бы что-нибудь и случилось со мной. Но будем верить в самое хорошее, а так и должно быть: если веришь в хорошее, то хорошее и бывает. Пусть будет так, как мы с тобой хотим: так и будет, — все хорошо: и будет, — уж это, наверное, — и мы с тобой еще увидимся, и будем жить вместе, вдвоем друг с другом — а вокруг все, кого ты захочешь».
В письмах, которые Арсений посылал с фронта, он всегда беспокоился о мамином здоровье и подробно рассказывал о своих рабочих сложностях во фронтовой газете. 18 июня 1942 года он писал: <…>: «Ты написала, что похудела, и у меня в сердце словно иголка повернулась. Бедная моя детуся, как тебе, должно быть, трудно возиться со всем твоим хозяйством, и ешь ты, верно, очень плохо, все отдаешь другим, я ведь тебя знаю.
Стоит такое плохое дождливое лето. К счастью — я и еще несколько наших снова в городе и мокрядь прошла. Небо серое, и сверху льет, но когда под крышей, то хоть спать и душно — я отвык, — да сухо. У меня сегодня болит голова, должно быть, потому, что такая погода.
С новым начальством у меня изменилась жизнь — и очень неприятно изменилась. Теперь я не смогу часто ездить на передовые, а я очень любил там жить. На передовых такие славные, спокойные люди, с широтой характера, с такой душевной твердостью, что с ними и сам становишься таким. Чаще, чем раз или два в месяц, меня отпускать не будут, вместо этого я должен буду писать юмор; но так как юмор мне то же, что в цирке прыгать через обруч, то я отбрыкиваюсь от него и, кажется, сегодня отбрыкался. Я оставляю за собой стихи — героику и лирику, а юмор пусть ведет кто-нибудь другой, я только буду делать красноармейские военкоровские юмористические стихи и подписи под карикатурами. А вообще мне стало очень скучно, и я думаю, что с большей пользой для дела я сидел бы где-нибудь в другом месте и вел только лирику. Но мы с редактором уже договорились, и, правду сказать, мне было бы жаль покидать наше соединение, потому что у него добрая слава и редакцию менять на другую — кто его знает, какой она могла бы быть. Вообще же — если кто-нибудь из нас бывает прав, то только ты, а никак не я, — хоть я, конечно, и был прав перед совестью, когда рвался в армию. Наш прежний редактор назначен во фронтовую газету, и он меня хотел взять отсюда к себе, но главпурк-ка ему не разрешило, и я очень жалею об этом, с тем я сработался и он был очень хороший человек, в обиду не давал и был хороший товарищ, и при нем в газете я делал что хотел, а так как я хотел только хорошего, и он понимал это, то и доверял мне целиком. Я, конечно, понял это слишком поздно. Когда ты писала про Щипачева, то мне было страшно, что ему приходится самоутверждаться, представляя какие-то доказательства, мне это было не нужно, Павлов и сам понимал это. Если я чем был стеснен, то только особенностями газеты — она ведь рассчитана на бойцов и мл. командиров, которым, естественно, до Щипачева с его стихами, типа: вот куриное яйцо, я смотрю на него, оно такое маленькое, а земной шар большой — конечно, не было никакого дела, как и всем на земном шаре, кому поэзия дорога или безразлична.