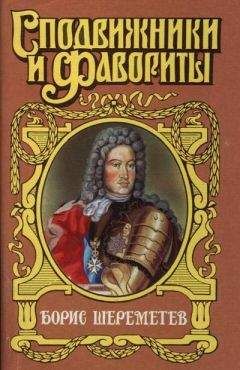Михаил Пробатов - Я – Беглый
— Гляди. Я выиграл пятьдесят тысяч по трамвайному билету.
— Ну, он-то выиграл, — я говорю, — это я уж вижу. А вы, Настя?
Настя его обняла и улыбнулась так, что у меня сердце дрогнуло:
— И я выиграла. Мы с Алексеем оба выиграли.
Когда в девяностые они уезжали, у них уж были взрослые дети, даже, внуки, если я не перепутал.
Одна беда. Настя, когда её спрашивали, кем работает её муж, ещё очень долго совершенно серьёзно отвечала:
— Мой Лёша, он, это самое, кубики рисует. Его за это чуть не посадили.
Но ведь, если разобраться, положив руку на сердце, разве это было не так?
* * *Я очень хорошо помню, момент, когда мой отчим потерял всякий интерес к судьбоносным событиям перестройки. Он к тому времени совершенно перестал читать газеты, а телевизора никогда и прежде не смотрел. Сидел, с бутылкой — как бы наедине, и курил. Он был уже очень сильно болен. Обнаружили сахарный диабет.
— Иван, послушай, ты же биолог…
— Да ладно! Какой там я к шутам биолог.
Действительно, мне просто хотелось сказать ему что-то приятное. Он не закончил и второго курса.
— Что такое водка? Вода и сахар, больше ничего. Ты себя травишь.
— А про дрожжи забыл, — с усмешкой отвечает он, щурясь от табачного дыма.
И вот я упомянул как-то, что Сахаров — депутат Съезда. Не помню, в какой связи я это сказал. Не представляю себе человека, который бы этого не знал тогда. Иван не знал. Он вдруг встрепенулся. Стал набирать телефонный номер. Оказалось занято. Больше он звонить не стал, и слава Богу. Ему пришлось бы говорить с Еленой Георгиевной Боннэр, и вряд ли это был бы разумный разговор.
— Ну, и что он там? — спросил Иван меня.
— Так себе. Не дают ему сказать ни слова.
— А они, почему ему должны слово давать? Он что им — свой?
— Видишь ли, Горбачёв, уж какой он там ни есть… — тогда постоянно так выражались о Горбачёве.
— Горбачёв, он парткомовская крыса. И он своих собрал на съезд. Нормально. Только там Сахарову делать нечего.
Я что-то стал говорить о том, что на Съезде далеко не только номенклатура собралась. Иван неожиданно налил два почти полных чайных стакана водки и достал из-под стола вторую бутылку.
— Давай-ка лучше выпьем.
— О-ох, что-то много. А мне, Ваня, сегодня ещё…
— Не хошь, не пей.
Я выпил и, отдышавшись, снова стал его уверять, что мы стоим на пороге великих перемен. Он курил и молча слушал. Он редко перебивал человека, а всегда старался внимательно дослушать до конца. Потом он ещё давал себе несколько мгновений на раздумье, прежде чем ответить. Эта привычка вырабатывается на допросах. Он меня очень долго слушал, потому что двести грамм водки это всё же кое-что. Потом он, ещё немного помолчав, сказал:
— Говорю тебе всё это пурга. Муть, понимаешь? Не понимаешь. Ладно. Будешь ещё?
Мне нельзя было ещё. А Иван ещё выпил и перестал меня замечать.
22 августа 91 года я пришёл к вечеру после трёх дней отсутствия. Мать и Иван, оба очень обрадовались. Мать беспокоилась, как бы мне голову не проломили, а Ивану жаль было мою мать, которую он очень любил. За меня он не беспокоился. Я рассказывал, перескакивая с одного на другое. Они слушали молча. Оба. Ни слова. В конце концов, я положил на стол обломок гранита. Ещё не на Лубянке, но уже на бывшей площади Дзержинского днём мы разбивали цоколь постамента, где вчера высился Железный Феликс.
— Мишутка, — сказала мать, — этот цоколь там был задолго до памятника. Там был фонтан. Это цоколь, который был вокруг старого фонтана. Зачем же вы его разбили?
Я не знал, что ответить.
— Чего встал? — сказал Иван. — Давай присаживайся, пока. Навоевался?
— Чего ты, в самом деле, иронизируешь?
— Не обижайся, — сказал Иван. — Не обижайся. Не тебя первого наебали, не тебя последнего. Посерьёзней тебя люди фраернулись. Ничего. Всё пройдёт.
— А ты знаешь, — сказал я, — у меня, действительно, складывается впечатление, что…
Мне было тогда без малого пятьдесят лет. Я считал себя человеком, прошедшим огонь и воду — в буквальном-то смысле так оно и было. Но в те дни я ничего не понял. Возможно, и отчим мой не понял, но каким-то особым лагерным чутьём почуял обман.
Зимой оказалось, что Украина стала заграницей. У Ивана в Одессе жила дочь. Петропавловск тоже стал заграницей. Он совсем погрустнел. А впрочем, он никогда и не был весельчаком. Вскорости он умер.
* * *Когда мне было лет восемь или девять, мы с моей бабушкой на лето приезжали отдыхать на Азовское море. Был там хутор, неподалёку от Таганрога, название которого я давно забыл. Жили на хуторе кубанские казаки. И мы снимали хату. Места тихие, красивые, но совсем не курортные. Там бабушке, семь лет отбарабанившей в мордовских лагерях, было спокойно с ребёнком. В общем, там было хорошо.
И вот — я это всё помню, будто вчера было — вечером, только что солнце зашло, но заря пылает ещё на горизонте, мы идём к морю. В наступающих сумерках серебром светятся волосы моей бабушки, и море Азовское, жемчужное, тоже светится, листья пирамидальных тополей мерцают. И что-то она мне рассказывает, а я и слушаю и не слушаю. И всё бегаю вокруг неё, а потом вдруг прижмусь к её юбке лицом и не хочу отпускать. Никогда у меня не было человека ближе, чем она.
Вдруг откуда-то из глубины утонувших уже в темноте виноградников — песня. И эта песня, незнакомая, дикая, красивая каким-то сумасшедшим разгулом, пугает меня.
Распрягатэ хлопци коней
Та й лягайтэ спочивать… –
И внезапно, со свистом, пронзительным визгом и выкриками:
Маруся, раз-два-тры, калына,
Чэрнявая дивчына
У саду ягоды рвала!
Я совсем испугался, жмусь к бабушке:
— Баба, пошли домой…
И невесомое, прохладное прикосновение её надёжной маленькой ладони:
— Чего ты испугался, дурачок? У людей праздник. Свадьба. Они празднуют и нас не обидят.
Слышится скип хромовых сапог, из темноты, пошатываясь, выходит какой-то громадный человек. Он очень красив и кажется мне военным, потому что — усы, гимнастёрка, галифе, начищенные сапоги «в гармошку», а на груди у него звенят медали. И он, порывшись в кармане, вытаскивает горсть леденцов «момпасье» с налипшей махорочной крошкой, присаживается накорточки, дышит мне в лицо табаком, самогонкой, потом.
— Та шо ты спужался? О, гля, я тоби леденцив, спробуй яки сладки. Та не плачь, казаки ж нэ плачуть… — тяжела его сильная рука у меня на голове.
Потом, когда он, переговорив о чём-то с бабушкой уходит снова в темноту, бабушка с её характерным выговором польской еврейки произносит что-то вовсе мне непонятное: