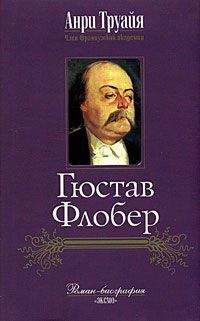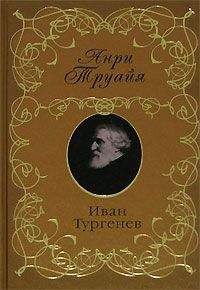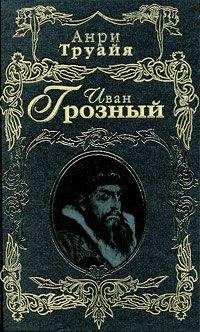Анри Труайя - Ги де Мопассан
И вскоре Ги бросается в другую крайность, пускаясь в зловещие фарсы. Один из таковых закончился трагически. Жертвою стал смиренный министерский писарь, который до такой степени доводил Мопассана своей тупостью, что тот совместно с товарищами по «Обществу сутенеров» решил преподать ему урок. Под предлогом посвящения в оное братство его мастурбировали в перчатках для фехтования, да еще и воткнули линейку в задний проход. Несколько дней спустя несчастный отдал Богу душу, а подтвердить, что этим безвременным концом он обязан дурному обращению со стороны пятерых озорников, не удалось (Э. де Гонкур. Дневник, 1 февраля 1891 г.). Как бы там ни было, совесть у Ги осталась спокойной. Он даже зубоскалит по поводу этой перипетии. Жертва, титулованная им Moule à b.,[27] исполнила свое предназначение на земле, ибо окочурилась таким вот смешным фасоном. «Большая новость!!! – пишет он своим приятелям по „Обществу сутенеров“. – Moule à b… умер!!! Умер на честном поле брани, сиречь на своей кожаной чиновничьей подушке около трех часов пополудни в субботу. Шеф послал за ним; посыльный вошел и увидел его бедное маленькое тело неподвижным, носом в чернильнице. Стали вдыхать ему воздух с обоих концов, но он не пошевелился… В Морском министерстве поднялся переполох, заговорили о том, что это наше преследование (выделено в тексте. – Прим. пер.) сократило его земной путь… Я покажу этому Комиссару (комиссару судебных поручений. – Прим. авт.) рожу Многоуважаемого Президента Общества сутенеров и просто отвечу: байки… Мне бы еще хотелось затеять процесс против его семейства – почему не предупредили нас, что он такого дурного свойства? Он мертв, мертв, мертв! Сколь коротко, неблагозвучно и ужасно это слово! Мертв – это значит, что мы его больше не увидим; мертв, кроме шуток! Нашего Moule à b… больше нет. Скапутился. Сковырнулся. Отошел. Гигнулся. Или, может, по крайности, сыграл в ящик?»
Создается впечатление, что, выпаливая это циничное надгробное слово, Ги гонит смерть прочь от себя. Изо всех своих пока еще не претерпевших ущерба сил показывает кукиш небытию. Между тем идея собственной кончины не оставляет его. Голод по движениям, тяга к энергичным упражнениям и легкодоступным удовольствиям сменяются длительными периодами черной меланхолии. Душа общества вновь ищет одиночества. Волоките и юбочнику открывается тщета земных наслаждений. Глядя на струящуюся грязную воду Сены, он задается вопросом, каков смысл его присутствия в этом кабаке с названьем «Лягушатня». Потом внезапно его вновь охватывает неистовая жажда жизни. Он снова бросается в ее бушующий водоворот, пьянствует, хохочет, гоняется за девицами. В любви он не рафинированный ценитель чувств, а обжора. Слишком нетерпеливый, чтобы дегустировать, он поглощает свою жертву. И если сам он блистает чистотою, то его прелестные партнерши – отнюдь не всегда. Но запах женщины завораживает его.
На закате дня вся компания возвращается в Париж в переполненном вагоне, где горячий запах эля смешивается с ароматом дешевой парфюмерии и запахом пота. После блаженных часов, проведенных на вольном воздухе, у путников усталые, темно-красные физиономии. Ги понуро возвращается к себе в комнатенку на первом этаже дома № 2 по рю Монсе, единственное окошко которой выходит на сумрачный двор. Почти никакой мебели; по стенам – книги, на столе – бумаги, а посредине всего этого беспорядка – рука трупа, та самая, которую Суинберн подарил ему в Этрета. Эту руку он давно мечтал подвесить к шнурку колокольчика у входной двери. И если он отверг эту мрачную идею, так только потому, чтобы не отпугивать нежных созданий, которые порою заглядывают в его холостяцкое логово. Обитатель оного ведет счет своим победам и утверждает, что от 18 до 40 лет мужчина легко может обладать тремястами различными женщинами.
С сожалением упрятав в шкаф свой наряд лодочника, он надевает на следующее утро строгий костюм, повязывает черный галстук и направляется в министерство. Удрученный перспективой сидения за столом с запыленными папками, он только и думает о новом побеге к берегам Сены, к веселому заведению с названьем «Лягушатня» с его сутолокой бесшабашных гребцов и разгоряченных девиц. Только бы в воскресенье была хорошая погода!
Глава 7
С улицы Рояль на улицу Гренель
С наступлением ненастного сезона пришел конец купаньям и катаньям на лодке. Обреченный безвылазно находиться в Париже, Ги удваивает интеллектуальную деятельность. Еще ничего не напечатав, он с робостью трется в литературной среде. Не кто иной, как Флобер, бывая наездами в столице, представил его своим друзьям по писательскому цеху. Он по-прежнему убежден, что молодой человек обладает талантом, но должен еще немало работать, прежде чем пускаться в литературную карьеру. «Я уже месяц хочу тебе написать, чтобы выразиться в нежности по адресу твоего сына, – признается он Лоре. – Ты не поверишь, каким я нахожу его очаровательным, умным, добрым малым, рассудительным и духовным, сказать короче – чтобы употребить модное словцо – симпатичным! Несмотря на нашу разницу в годах, я вижу в нем „друга“ (кавычки в тексте. – Прим. пер.), и потом, он так напоминает мне моего бедного Альфреда! (Ле Пуатевена. – Прим. авт.) Порою я даже пугаюсь за него, особенно когда он опускает голову, декламируя стихи… Надо поощрять в твоем сыне вкус, который он питает к стихам, ибо это – благородная страсть, ибо словесность утешает несчастных, и потому, что у него, может быть, будет талант… кто знает? Он до сих пор не сочинил достаточно, чтобы я мог позволить себе высчитать его поэтический гороскоп… Я желал бы, чтобы он взялся за сочинение крупномасштабного произведения, пусть и отвратительного. То, что он показывал мне, стоит всего, что печатали парнасцы… Со временем он обретет оригинальность, индивидуальную манеру видеть и чувствовать (ибо все при нем). А что до результата, успеха – черт ли с ними! Главное в этом мире – держать свою душу в высоких сферах, подальше от буржуазной и демократической грязи. Культ искусства создает гордость; слишком много никогда не бывает. Такова моя мораль» (письмо от 23 февраля 1873 г.).
Чего не написал в этом письме Флобер, так это того, что он по-прежнему желал бы своему сопернику отказаться от поэзии и посвятить себя прозе. Но он не форсировал ход событий и довольствовался тем, что по привычке указывал ему на неуклюжесть стиля. Их встречи в Париже сделались регулярными. «Мой маленький папочка, – пишет Флобер Ги, – решено, чтобы в эту зиму вы каждое воскресенье приходили ко мне на обед». Сознавая, какая ему оказана честь, Ги отправляется в воскресенье к мэтру на рю Мурильо. Там он встречает сурового «мосье Тэна», прихварывающего и улыбчивого Альфонса Доде, Эмиля Золя, наводящего свой лорнет и проповедующего натурализм, добродушного гиганта Ивана Тургенева с пышной серебристой гривой и белой бородой, Эдмона де Гонкура – седеющего, усатого и степенного, да еще стольких других… Для всех этих заслуженных особ протеже Флобера – бравый нормандский паренек со здоровым цветом лица, крепкого сложения, с кое-какими литературными претензиями, впрочем, пока еще ничем не обоснованными. Он с почтением слушает их речи и редко высказывает свое мнение. И вот в воскресенье 28 февраля 1875 года в этой маленькой группе обсуждались достоинства поэзии Суинберна. Ги навострил уши. И тут слово взял Альфонс Доде: