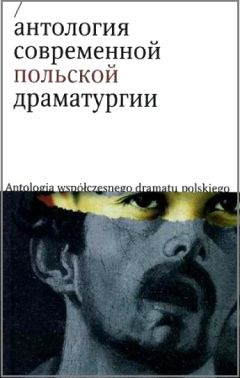Марек Эдельман - Бог спит. Последние беседы с Витольдом Бересем и Кшиштофом Бурнетко
— Я на такие «вздохи» и не знаю, что ответить. Если живешь, то приспосабливаешься к тому, что вокруг тебя. Не скажу, что эти развалины рвали душу. Идти по тропке среди кирпичей было очень неудобно… Да, ужасно, но ничего душераздирающего. Человек был счастлив, если выбирался на ровную дорогу.
— Это фактически кладбище.
— Да. Когда строили банк на углу Дюбуа и Заменгофа и стали рыть котлован под фундамент, приходилось то и дело прерывать работу, потому что экскаватор вместе с обломками и землей зачерпывал человеческие кости. Не знаю, что с ними делали, отделяли или нет.
Однажды я шел по Муранову с какой-то западной телевизионной группой. Один из телевизионщиков говорил по-польски и спросил у случайной молодой пары, как им живется тут, на кладбище. Парень ответил, что ничего не знает. Но девушка призналась: «Мне по ночам страшно». Как-то я зашел к знакомой журналистке — погреться, было ужасно холодно. Гляжу, а у нее на полке фигурки евреев с бородами, в лисьих шапках, — кажется, такие продают под Краковом на ярмарках. Я спросил, откуда они у нее, и она сказала, что боится здешних духов и по ночам, когда ей страшно, смотрит на этих евреев: раз они тут стоят, значит, живы… Ладно, это не важно. Все-таки некоторые понимают, что живут на кладбище, и им страшно.
Хотя с виду Муранов ничем не отличается от других новых районов. По всей Европе спальные районы выглядят одинаково. Люди, у которых нет средств жить во дворцах, живут в стандартных домах. Возможно, ванные в Париже по качеству лучше, чем в Бухаресте, но снаружи все выглядит одинаково.
— Но на Муранове дома построены на этих бугорках…
— Там были горы развалин высотой до второго-третьего этажа. Часть увезли: приезжали жители маленьких городков и увозили кирпичи для строительства своих домов. Но большая часть развалин осталась. Люди знают, на чем живут.
— А когда была разобрана стена гетто?
— Не помню. Должно быть, сразу после войны. Я вернулся в Варшаву в начале 1945 года — в январе, феврале или марте — и не помню, чтобы видел хоть остатки стены. Думаю, кирпичи начали раскрадывать сразу. Иначе сохранилась бы хоть какая-то документация — ведь Управление по восстановлению столицы быстро приступило к работе. И какие-то фрагменты, вероятно, оставили бы. А этот кусочек во дворе на Твардой сохранился случайно.
— Но во время Варшавского восстания стена еще стояла? Была ли территория гетто, на которой вы сражались в 1943 году, в августе 1944-го все еще отрезана немцами от остальной части города?
— Нет, ведь на месте гетто был лагерь — «Генсювка»[55]. Там были немцы, но аковцы атаковали «Генсювку» и освободили евреев из разных стран, которых там держали. Впрочем, большинство из них потом погибли.
— Как?
— Не могу сказать, не видел. Выжили только несколько человек. Один грек даже приезжал каждый год на годовщину восстания. Но остальные… Они так и оставались в полосатых робах, в гражданскую одежду их не переодели. Один раз я видел, как они тащили большую бомбу с шестого этажа. Человек двадцать в этих полосатых робах. Когда я стал расспрашивать, кто это, мне сказали, что была атака на «Генсювку», они оттуда.
Может, кто-то постарался, чтобы они остались в этих робах…
У меня с ними почти не было связи, потому что поначалу их не выпускали из бараков. А что с ними сталось?.. Кажется, некоторые участвовали в восстании, а остальные куда-то девались. Куда — не знаю, во время восстания я был в другом месте. Мой пост был на Старом Мясте, внизу, на Мостовой улице, возле того белого дома, где сейчас театр «Стара Проховня». Там на меня обрушилась стена: по ней выстрелил танк, а я стоял под стеной, и меня засыпало.
Так или иначе, на Муранове среди кирпичей сохранились следы прежней жизни. Ведь когда дом рушится, мебель с верхних этажей летит вниз вместе с кирпичами, черепицей, балками. И даже если все горит, какой-нибудь шкаф или стол из твердого дерева, присыпанные обломками с верхних этажей, иногда остаются целы. Я сам помню, как в марте или апреле 1945-го, не позже, люди вытаскивали мебель из-под развалин. Не много было этой мебели, но все же…
Впрочем, тогда можно было наткнуться и на трупы. На виадуке на Жолибоже, со стороны Старого Мяста, долго лежала девушка, погибшая во время Варшавского восстания… Может быть, связная, не знаю… Молодая, в защитной форме, у нее была кобура от пистолета… Видно было, что красивая, хотя лицо изуродовано пулей… Добрых несколько месяцев пролежала, пока ее не забрали.
Даже совсем еще недавно, когда начали рыть котлован под фундамент Музея польских евреев, нашли старые объявления еврейской общины, которые какой-то чиновник, видимо, спрятал во время последней акции в январе 1943-го. Там был песок, и они сохранились. Кажется, их забрали какие-то историки.
Не знаю, важно это или нет, но на Муранове, под землей и под этими кирпичами, сохранились следы той жизни.
— Почему никогда не пытались эксгумировать трупы из бункера на Милой, 18? Анелевича[56] и других?
— А зачем эксгумировать? И что дальше: перенести кости на кладбище? Что это даст? Так они лежат со своим оружием без патронов, и пусть лежат. Никто их не трогает, и не надо трогать. Зачем? Ведь всё вместе — это большое кладбище, так зачем трогать?
О том, что на Милой, 18, под этим бугорком, лежат люди, известно. Но под соседним домом тоже люди, из других бункеров. Десятки, сотни людей… — все там, под этими развалинами. Какие-то останки могли мумифицироваться, от некоторых, вероятно, остались только кости. И не надо туда заглядывать. Известно, что это кладбище… А на всяком кладбище есть аллеи, так, может, здесь аллеи — теперешние мостовые?
Константы ГебертВ 1979 году Марек пришел на одно из занятий Еврейского летучего университета[57]. Оглядел нас и высмеял: «Вы — не евреи, — сказал, — вы это себе выдумали. Польских евреев уже нет — все убиты». Должно было пройти много лет, чтобы он перестал насмехаться над нашим «вымышленным еврейством», но полностью своего мнения так и не изменил. Однако, утверждая, что все польские евреи убиты, Марек был неправ. Пока он был жив, они жили в нем. Сейчас на каждого из нас ложится доля ответственности за то, чтобы они продолжали жить.
Я не хочу возводить в его честь храм — он первый поднял бы меня на смех. Марек был антисионистом. «Израильтяне, — часто говорил он, — не евреи, это другой народ». Да, истребленный народ Марека — бедные евреи, отечеством которых были не пески Негева, а Милая и Дзикая улицы, которые хотели строить не новое государство, а лучшую Польшу; даже когда их из этой Польши пытались выгнать, большинство считали сионизм плодом глупой фанаберии. Когда этот народ погиб, Марек сохранил ему верность. Ахават Исраэль, любовь к народу Израиля, не позволила ему полюбить Государство Израиль. Он не спускал с него своего требовательного взгляда (как, впрочем, и с его противников, и с Польши), но никогда никому не позволял использовать собственные претензии в качестве алиби для ненависти.