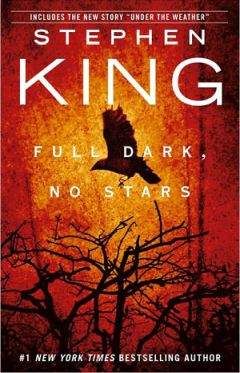Виталий Шенталинский - Свой среди своих. Савинков на Лубянке
— Суд назначен на завтра, в десять часов утра.
Он шагает из угла в угол.
— Кстати, знаете ли вы, кто сидел раньше в этой камере? Патриарх Тихон… Передо мною стоит дилемма. Для меня ясно, что я ошибался, что мы все ошибались… Одно из двух: либо умереть, не признаваясь в своей ошибке, и смертью своей снова звать на борьбу, а борьбу эту я считаю уже бесплодной, если не вредной, — или иметь мужество умереть, признавшись в своем заблуждении. В первом случае за границей заклеймят моих «палачей». Но еще тысячи русских людей погибнут зря, без пользы для России. Во втором случае — заклеймят мою память… Чтобы понять, что мы совершенно побеждены, надо бороться так, как боролся я, надо пережить крушение последних надежд, как я его пережил в Минске, и быть здесь, в России. Пусть в тюрьме, но в России… В 1922 году почти остановился приток эмигрантов. В 1924-м русские не покидают России, хотя Наркоминдел выдает теперь заграничные паспорта. Что же до эмиграции, то она живет воспоминанием о терроре и гражданской войне. Люди, приезжавшие в последнее время из России, в один голос рассказывали, что многое изменилось, но мы считали, что они «куплены Москвой». Мы не верили ни фактам, ни статистическим данным. «Ах, Советы экспортируют хлеб!» — иронизировали мы. «Какой же может быть экспорт, если крестьяне не засевают полей?..» Но поля засеяны, и 1924 год не похож на 1920-й…
Да, завтра меня судят… И для меня, старого революционера, ясно, что я шел против народа, то есть против рабочих и крестьян».
Как легко поддается Савинков советской пропаганде, когда это в его интересах!
Нет тюрем? И тюрьмы полнились, и страна все больше обрастала колючей проволокой концлагерей. Эсеры? Истреблялись, хоть и постепенно, но повсеместно и поголовно, как, впрочем, и все другие социалисты, кроме коммунистов. С 1922-го нет эмиграции? Именно в этом году из страны были насильственно высланы лучшие представители научной и творческой интеллигенции — целый «философский пароход». «В 1924-м русские не покидают России…» — попробовали бы! Что же до «засеянных полей», то на то они и крестьяне, чтобы сеять и жать, — ради хлеба насущного, а не родной советской власти. А голод придет — когда эта власть обрушит на народ сплошную коллективизацию, новую, самую страшную волну террора.
Суд
27 августа. Борис Викторович, наверное, уже в зале суда. Приговор будет объявлен не раньше чем завтра вечером. В «Правде» по-прежнему нет ничего. Значит, Александр Аркадьевич не знает, кого судят сегодня.
Я в моей камере, как зверь в клетке.
Снизу слышатся удары молота. Кто-то поет. Очевидно, ремонт. Мне кажется, что вечер никогда не наступит.
Я беру книгу по астрономии. Я перечитываю несколько раз одну и ту же страницу. Иногда я по чайнику стараюсь определить время.
Вероятно, теперь часов восемь… Щелкает ключ. Я вижу, как в коридоре Борис Викторович прощается с Пузицким. Пузицкий в длинной военной шинели.
— Я очень устал…
Он вынимает из кармана сандвич и виноград.
— В перерывах меня караулили пять красноармейцев и молодой командир. Он был очень любезен. Это он принес мне поесть…
Молчание. У него такой утомленный вид, что я не решаюсь его спрашивать ни о чем.
— Зал заседания был полон. Был Калинин, несколько членов ЦИКа и много рабочих… Процедура очень проста. У меня нет защитника, и так как я не отрицаю ничего, то в свидетелях нет нужды. Когда я расскажу до конца все семь лет моей борьбы с коммунистами, суд вынесет приговор. Председатель, Ульрих, придирается ко мне. Он ловит меня на ничтожных противоречиях. Как будто я могу помнить все мелочи моей жизни!.. Да и к чему меня ловить, раз я принимаю ответственность за все?.. Пока я не назвал себя, большинство присутствующих не знало, кого судят. Сообщение о моем аресте появится в газетах одновременно с приговором. Вероятно, это делается для того, чтобы избежать скопления народа около здания суда… Я отказался назвать фамилии…»
Никого он не выдал — это так, сколько ни настаивали следователи и судьи. В стенограмме суда есть фрагмент, который не был опубликован: «Я дам вам исчерпывающие показания, но насчет фамилий, вы меня легко поймете, я жизнью своей не дорожу, это сделать мне трудно. Я не буду называть имен… Я буду вам глубоко благодарен, если вы не будете задавать мне вопросов о фамилиях…»
«— Я называл только умерших. Но об иностранцах я говорил откровенно. Кто тот русский, который меня осудит за это?.. Иностранцы! Иностранцы, кто бы они ни были, прежде всего думают о себе, в ущерб России. Вы знаете, как я люблю Францию, но я не забыл, как, вольно или невольно, обманул нас ее представитель перед Ярославским восстанием… (Посол Франции Ж. Нуланс заверял Савинкова, что, как только восстание начнется, французы своим десантом в Архангельск поддержат его. Однако этого не случилось. — В. Ш.) Поляки… Они посадили наших солдат за проволоку. Они разрешали отправляться членам нашего Союза в Россию только при условии шпионской работы. Меня они выслали за границу с жандармами… Я сегодня говорил пять часов… Мне нужны силы на завтра. Но я не смогу уснуть: передо мной стоит все та же дилемма…
28 августа. Борис Викторович мне сказал: «Во всяком случае, мы увидимся еще раз после приговора. Пилляр обещал мне это…»
Я лежу без движения на койке. Такое ожидание ужасно. В тюрьме оно ужасно вдвойне.
Я не знаю, сколько времени я лежу… Скрипит замок. Я притворяюсь спящей. Ведь это, наверное, надзиратель… Входит Борис Викторович.
— Перерыв до восьми часов.
Он долго молчит. Потом говорит внезапно:
— Я признаю Советскую власть. Народ с Советами. Это моя обязанность, как моей обязанностью было ехать в Россию… Когда меня больше не будет, напишите Философову[2], Вере Викторовне и Рейлли и постарайтесь объяснить им то, что издали им покажется необъяснимым… Я очень мучился эти дни. Но теперь я принял решение, и я спокоен. Я постараюсь заснуть до конца перерыва…»
Невозможно не доверять его словам, думать, что он притворялся перед любимой женщиной в ожидании казни. Трагедия была подлинной.
«Я очень мучился эти дни»…
Такого Савинкова мало кто знает. Даже для ближайших друзей это был человек дела, сгусток воли. В душу свою не допускал, крупицы ее лишь угадывались в литературных героях Ропшина. Но вот на краю жизни, на Лубянке, он приоткроет себя — начнет писать дневник, дневник-исповедь, — и в нем проступает человеческий лик этого исторического персонажа:
«Когда ждешь смерти и уверен в ней (в Севастополе я почему-то не был уверен), думаешь о самом главном. Вероятно, так. Я думал очень много о Любови Ефимовне и Левочке, немного о Русе (Левочка — сын Савинкова, Русей он называл свою сестру Веру. — В. Ш.), немного о покойной маме. Готовясь к расстрелу, я себе говорил: «Надя, женщина, прошла через это. Пройду и я». В этой мысли я находил поддержку. (Надя — сестра Савинкова. Вместе с мужем, В. Х. Майделем, была расстреляна большевиками в годы Гражданской войны. Савинков мотивировал свою многолетнюю непримиримость к советской власти тем, что не мог «переступить через их трупы». — В. Ш.) Кроме того, я много думал о малости человеческой жизни. Мама мне как-то сказала: «Помни, Борис, на свете все суета. Все». В последнем счете она, конечно, права. А утешали меня книги по астрономии. Особенно Венера, ее жизнь. В душе не было никакой надежды, и немного равнодушия. И в то же время отчетливое сознание — «не за что умирать». Именно «не за что»…