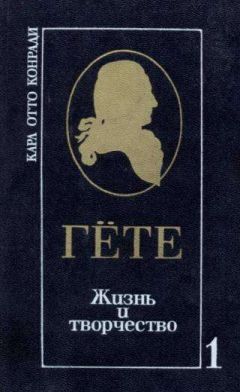Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни
ХУДОЖНИК, УЧЕНЫЙ, ВОЕННЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ
НАЧАЛО ДЕВЯНОСТЫХ ГОДОВ
Снова — Италия
Не прошло и двух лет со дня возвращения Гёте в Веймар, как он снова отправился в Италию. Он выехал навстречу герцогине-матери Анне Амалии и на обратном пути из Италии должен был провезти герцогиню через северную область страны. 13 марта 1790 года он пустился в путь со своим слугой Паулем Гётце и в последний день марта прибыл в Венецию. Там он стал ждать герцогиню, и это ожидание затянулось на недели. Герцогиня-мать прибыла в Венецию лишь 6 мая, в сопровождении искусствоведа Генриха Мейера и художника Фрица Бури. Следовало ожидать, что эти недели в Италии станут для Гёте счастливым отдохновением — поэт сможет снова осмотреть город, наблюдать за повседневной жизнью его обитателей, проверить впечатления, накопленные здесь же осенью 1786 года. Но странным образом счастья под южным небом на этот раз не оказалось. Ничего огорчительного, правда, не произошло, да и в городе за минувшие три года ничего не изменилось. Но теперь, при повторном посещении города, поэт многое видел другими глазами. «Итальянское настроение», о котором он долго мечтал и часто упоминал в своих письмах, не посетило его на этот раз. Может, зря он так торопливо вызвался сопровождать путешествующую герцогиню — ведь ради этой поездки пришлось оставить Кристиану и Августа, родившегося в декабре прошлого года. «На этот раз я неохотно покидаю свой дом», — писал он Гердеру 12 марта 1790 года, за день до отъезда. Не лучше ли было использовать время затянувшегося ожидания для естественнонаучных исследований, которыми он так увлеченно занимался в Веймаре?«…Вообще же я должен по секрету признаться Вам, что в эту поездку моей любви к Италии был нанесен смертельный удар. Не то что мне в каком-то смысле пришлось скверно, да и как бы это могло случиться? — но первый цветок тяготения и любопытства осыпался; я все больше становлюсь Шмельфонгом.[14] Сюда же присоединяется моя тоска по оставленному Эротикону и по маленькому спеленатому существу, которых я, так же как и все, что принадлежит мне, покорнейше рекомендую Вашему благоволению», — писал Гёте герцогу Карлу Августу 3 апреля 1790 года (XII, 358).
До самого возвращения в Веймар Гёте пребывал во власти этого настроения. «Нисколько не вошел я в круг итальянской жизни», — признался он 28 мая в письме к Гердеру из Мантуи. Отчетливее прежнего видел он теперь бедственное положение народа: «Учит молитве нужда — в Италии этому учат. / Путник туда поспешит — и нищету там найдет».
Край, что сейчас я покинул, — Италия: пыль еще вьется,
Путник, куда ни ступи, будет обсчитан везде.
Будешь напрасно искать ты хоть где-то немецкую честность:
Жизнь хоть ключом и кипит, нету порядка ни в чем.
Каждый здесь сам за себя, все не верят другим, все спесивы,
Да и правитель любой думает лишь о себе.
Чудо-страна! Но увы! Фаустины уж здесь не нашел я…
С болью покинул я край — но не Италию, нет!
(1, 198)
«Жизнь, кипящая ключом» — как Гёте наслаждался, как восхищался ею всего лишь несколько лет назад, но теперь, спустя год после штурма Бастилии в Париже, он склонен ее осуждать. Мы, однако, теперь не сочувствуем этой критике, на такие понятия, как «немецкая честность» или «немецкий порядок», нам просто нельзя ссылаться после всего того, что подставлялось под них, — тем более для осуждения других народов и другого образа жизни.
Стихотворение, приведенное выше, — одна из эпиграмм, созданных поэтом в 1790 году во время пребывания в Италии. 9 июля он извещает Кнебеля: Мой Libellus Epigrammatum[15] уже завершен; в свое время ты его увидишь, но пока я еще не могу с ним расстаться». По возвращении домой к этим эпиграммам прибавились и другие все в том же роде. В 1791 году избранные эпиграммы были уже опубликованы в «Немецком ежемесячнике». Затем 104 эпиграммы появились в «Альманахе муз» за 1796 год, издаваемом Шиллером; некоторые из них позднее были переработаны для публикации в собрании сочинений «Новые произведения» («Neue Schriften», 7-й том, 1800). И снова, как в «Римских элегиях», далеко не все написанное могло быть преподнесено публике. Слишком уж смелыми, дерзкими, откровенными оказались многие из этих стихотворений. Сохраняя размер античных двустиший (как и в «Римских элегиях»), эти эпиграммы, то афористично лаконичные, то развернутые в стихотворение описательного типа, изобиловали меткими наблюдениями и воинственными обличениями, деликатными эротическими намеками и откровенно чувственными картинами.
То, что я дерзок бывал, не диво. Но ведают боги —
Да и не только они — верность и скромность мою.
(1, 210)
У римского поэта Марциала, наставника европейских поэтов — сочинителей эпиграмм, мы находим сходное: пеструю смесь тем и меткую остроту высказываний. Автор «Венецианских эпиграмм» позволил себе без смущения, в полный голос, рассказывать об увиденном, о том, что занимало его или, наоборот, раздражало, напрашивалось на критику или, напротив, пробуждало в нем восхищение. Когда же он обращался к собственной жизни, тут одновременно проявлялась и скромность, и уверенность в своих силах. Вслед за эпиграммой — ранним свидетельством его скептического отношения к родному языку (как и «Многое я испытал») — появилась другая, в которой поэт энергично защищает свое пристрастие к естественнонаучным исследованиям, и наконец — третья, непосредственно к ней примыкающая, — полемический выпад против Ньютона.
Что от меня хотела судьба? Вопрос этот дерзок:
Ведь у нее к большинству нет притязаний больших,
Верно, ей удалось бы создать поэта, когда бы
В этом немецкий язык ей не поставил препон.
(1, 210)
«Что ты творишь? То ботаникой ты, то оптикой занят!
Нежные трогать сердца — счастья не больше ли в том?»
Нежные эти сердца! Любой писака их тронет.
Счастьем да будет моим тронуть, Природа, тебя!
(1, 210)
1790 год; в это время Гёте, учтя противоречивый опыт первого веймарского десятилетия, с согласия герцога отказался от предложенного ему высокого поста, как и от обширных задач в области политической и административной. Зато он сохранил возможность широкой беспрепятственной деятельности в сфере искусства и науки, даже взял на себя некоторые официальные функции в этой сфере. Как член Совета он по-прежнему располагал солидной, представительной должностью. И по-прежнему он мог по любому поводу сказать свое слово; как и в прошлом, герцог и его чиновники обращались к нему за советами, порой не будучи в состоянии обойтись без них. После кризиса 1786 года Гёте бежал в Италию, но скоро он нашел и очертил для себя свой, строго определенный круг задач, который счел для себя подходящим, коль скоро жизнь свободного художника слова его не устраивала, и эта деятельность спасла его от разочарований, даже от отчаяния. Застраховав себя таким образом, Гёте, словно стремясь продемонстрировать самосознание поэта, взял себе право в своих эпиграммах свободно критиковать то, что ему претило, выносить всякому явлению суровый приговор. Многообразна тематика эпиграмм, но в иных поэт попросту благодарит «богов» за все, что они ему «даровали», за все, чего он достиг в жизни (№ 34). Хотя соотносить поэтическое высказывание с жизнью поэта следует всегда осторожно, все же в венецианских двустишиях непосредственная связь содержания их с жизнью, делами и мыслями Гёте настолько очевидна и так легко поддается проверке, что в данном случае сомнения излишни.