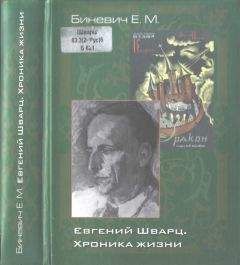Евгений Шварц - Позвонки минувших дней
Оратор стоял на каком‑то возвышении, далеко в середине толпы, поэтому голос его доносился к нам едва — едва слышно. Но прерывающие его через каждые два слова крики «Правильно!», «Ура!», «Да здравствует свобода!», «Долой самодержавие!» объяснили мне все разом лучше любых речей. Едва я увидел и услышал, что творится на площади, как перенесся в новый мир — тревожный, великолепный, праздничный. Я достаточно подслушал, выспросил, угадал за этот год, чтобы верно почувствовать самую суть и весь размах нахлынувших событий. Папа скоро исчез — увел его бледный, вдохновенный старшеклассник Клименко и кто‑то из тех наших гостей, которых звали по именам, без отчеств. В толпе я испытал все неудобства маленького роста. Как я ни подпрыгивал, как ни старался, кроме чужих спин, ничего я не видел. В остальном же я с глубокой радостью слился с толпой. Я кричал, когда все кричали, хлопал, когда все хлопали. Каким‑то чудом я раздобыл тонкий сучковатый обломок доски аршина в полтора длиной и приспособил к нему лоскуток красной материи. В ней недостатка не было — ее отрывали от трехцветных флагов, выставленных у ворот. Скоро толпа с пением «Марсельезы», которую тут я и услышал в первый раз в жизни, двинулась с пустыря, мимо армянской церкви к аптеке Горста и оттуда налево, мимо городского сада. У Пушкинского дома снова говорились речи. Трехлетний Валя сидел у мамы на руках, глядел на толпу с флагами, и, как я узнал недавно, это стало самым ранним воспоминанием его жизни. И было что запомнить: солнце, красные флаги, пение, крики, музыка. Возле нашего училища толпа задержалась. На крыше, над самой вывеской «Майкопское Алексеевское реальное училище» развевался трехцветный флаг…
…В конце августа 1906 года отправился я в первый класс. Шел я в училище охотно. Я забыл все неприятности. Я знал, что больше не встречусь с Чконией. Я знал, что теперь у нас будет несколько учителей. Удивило меня то, что в классе оказалось вдвое больше учеников, чем в прошлом году. Это все были мальчики, поступившие прямо в первый класс. Появился Баромыкин, Федоров, Серба, Киртоки, Токарев, Ходаковский. В первый же день в дверях нашего класса появился живой полный человек, чем‑то похожий на Наполеона. Одет он был в учительский вицмундир, но казался одетым лучше остальных. Манжеты его были белоснежны. От него чуть — чуть пахло духами. Впрочем, все это мы заметили позже. При первой же встрече мы несколько растерялись. Новый учитель вошел быстро. За ним длинный гардеробщик Иван тащил стойку с делениями и с подвижной дощечкой, назначения которой мы не поняли. «Das ist das Fenster!»[15] — крикнул учитель металлическим тенором еще в дверях. «Das ist die Wand!»[16] — и не успели мы опомниться, как урок уже шел полным ходом. Новый учитель не стоял на месте и не умолкал ни на одну минуту. Тон, взятый им, — повелительный, а вместе с тем и веселый, покорил нас. Мы и смеялись, и выполняли все приказания учителя, и к концу урока знали несколько слов по — немецки. А после урока подвел нас к непонятной стойке и измерил рост каждого из нас.
Измерив рост, учитель рассадил нас по новому и, попрощавшись весело, ушел. Так мы познакомились с новым учителем немецкого языка и нашим классным наставником. Звали его Бернгард Иванович Клемпнер. Он вел нас от первого класса до окончания училища. Это был блестяще остроумный, глубоко образованный, необыкновенный, своеобразный человек. Мало кто влиял на меня так сильно, как Бернгард Иванович. Мало кого я так искренне любил. На это он отвечал мне самой искренней неприязнью. Он, человек справедливый и никак не придирчивый, со мною бывал, правда, очень редко, и несправедливым, и придирчивым. И до сих пор, когда я вижу его во сне, со мною он разговаривает подчеркнуто холодно и неохотно. Впрочем, началось это все позже, а пока мы всем классом влюбились в нового учителя, и он был ровен со всеми нами…
Итак, в первом классе появилось множество новых учителей и множество новых учеников. На первой парте справа появился мальчик по имени Матвей Поспеев, бледный, миловидный, с большими черными глазами и правильными, словно нарисованными, бровями. Я за это время успел поссориться с Камрасом и возненавидел его профиль, затылок, голос. А на Поспеева поглядывал я с большой симпатией и подружился с ним. Подружился я и с Павликом Горстом — сыном того самого аптекаря-немца, который представлялся мне в бреду во время дизентерии. Теперь я бывал у них гостем. Миновав доступную всем часть, видимо, очень старой аптеки (на стене тут висел портрет еще Александра II с бритым подбородком и бакенбардами), мы проходили внутрь, минуя комнаты, где изготавливались лекарства. Тут же (или в комнате рядом?) стояла машина с колесами, изготовлявшая зельтерскую воду. Колеса эти, помню, вертели вручную. Дальше начиналась просторная квартира Горстов, уклад жизни которых напоминал шаповаловский. Даже осел был у Павлика, как у Пути. Этого осла часто запрягали мы в двухколесную таратайку и катались по улицам. Отравлял мне эти поездки способ, которым Павлик заставлял несчастное животное бежать быстрее. Кто‑то объяснил ему, что осел — животное толстокожее, следовательно, кнутом его не пробрать. Погонять его надо, шпыняя кнутовищем под хвост, что Павлик и делал. Отчаянно виляя серым своим хвостиком, ослик и в самом деле прибавлял ходу, а я мучился. Но увы — не из сострадания, а от стыда. Мама, проведав об этом способе понукания, сделала мне выговор, как будто я отвечал за поведение товарища. Да я и в самом деле чувствовал себя виноватым. Подружился я еще со странным, замкнутым мальчиком по фамилии Руднев. Он страстно мечтал о военных подвигах и обожал Наполеона, на ранние, консульские портреты которого и походил. Из ненависти к немцам (о войне с которыми тогда и речи не было) он упорно отказывался учить немецкий язык. Один из всех нас не покорился он Бернгарду Ивановичу и, не жалуясь, получал двойки, по другим предметам учась прилично.
У Руднева не было ни отца, ни матери. Его воспитывал дед — отставной генерал Потапов, такой же молчаливый и своеобычный, как внук. Он арифметическим способом вычислял вес Земли, а на меня и внука не обращал внимания, когда я бывал у них в пустоватой, мужской их квартире без всяких признаков уюта. Только на стене почему‑то висели павлиньи перья. Сблизился я и с Волобуевьм. С ним мы договорились внести изменения в молитвы до и после учения. Придумал это Волобуев, а я с восторгом поддержал. Изменения были, как я теперь понимаю, скромные. Молитва перед ученим кончалась так: «…дабы внимая преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям же нашим во утешение, церкви и отечеству — на пользу». Отсюда мы выбросили слово «церкви». Молитва после учения просила: «Благослови наших начальников, родителей и учителей, ведущих нас к познанию блага…» Тут мы сократили слово «начальников». Раза три мы благополучно прочли молитвы с нашими сокращениями, а на четвертый раз попались. Грустно, однако вместе с тем решительно, батюшка приказал Волобуеву прочесть молитву сначала, без всяких глупостей, что Волобуев, горбясь и смущенно улыбаясь, и выполнил. Я постепенно стал не то чтобы любить, а переносить без мучений свою школьную жизнь. И вот пришел конец первой четверти. Бернгард Иванович на последнем уроке появился с нашими табелями. Весело и наставительно подвел он итоги нашим успехам и неудачам, а затем стал раздавать четвертные отметки, пожимая руки лучшим ученикам. Каково же было мое удивление, когда я оказался чуть ли не вторым учеником в классе! У меня оказалась одна тройка, по рисованию, двойка по чистописанию, о которой вообще и говорить‑то не стоило. Удивление мамы, недоверчивая усмешка папы — вот чудеса‑то!..