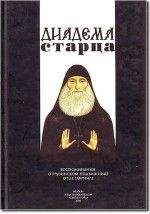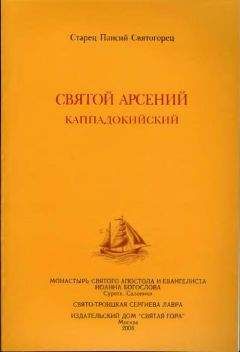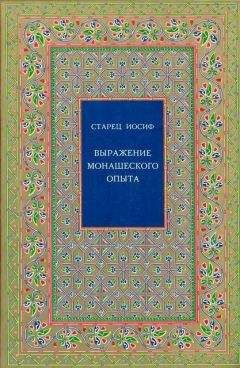Виктор Чернов - Записки социалиста-революционера. Книга 1
Он не был чужд тяге к народовольчеству, хотя возможность и целесообразность террора для данного момента была у него под сомнением. От него я в первый раз услышал фразу, ставшую значительно позднее ходячей: «террор делают, но о терроре не говорят». Во избежание недоразумений надо сказать, что у него это был не дешевый способ отмахнуться от вопроса, ощущаемого почему либо, как «неудобный». Нет, чувствовалось, что террор для него одновременно — и святыня, и рана. Фатальные неудачи целого ряда попыток террора в недавнем прошлом, ряд человеческих жертвоприношений на этом пути, без всякого иного видимого результата, кроме обескровления и без того на ладан дышавшей революции — все это не могло не пробуждать мучительных колебаний.
Видно было, что Омиров не задумается сам вступить на этот, роковой для многих путь, если «времена созреют», но что до этого момента он не позволит себе произнести ни единого слова, способного толкнуть на него кого-нибудь другого… Особенно подолгу и особенно страстно спорил Омиров с представителем тогдашнего марксизма, Кулаковским. Русский марксизм исключая заграничные выступления Плехановской «Группы освобождения труда» тогда еще только созревал в первых кружках Петербурга и Москвы, почти не выступая на открытой арене. Марксист была rаrа avis. В Дерпте пытались насаждать среди русских марксизм только поляки, державшиеся сплоченным кружком и считавшие себя оплотом западноевропейской духовной культуры против полуазиатского «московитского» самобытнического социализма и самобытнической социологии. Лидерами своими они считали тогда молодых и малоизвестных Ерживицкого и Винярского, чьи статьи пересылались в Дерпт часто в рукописях и читались, как рефераты. Среди польского марксистского кружка выделялись две фигуры, Дон-Кихот и Санчо-Панса, как шутливо звали их мы между собой: высокий, худощавый, Богдан Кистяковский, ныне известный автор сборника «Социальная экономия и право» и др. работ, и низенький, округленный, румяный, экспансивный «пан Кулаковский» или просто «пан», неутомимый застрельщик в спорах, почему то всегда заставлявший вспоминать пана Заглобу из «Огнем и мечом» Сенкевича.
К ним отчасти тянул приехавший вскоре из Петербурга молодой и даровитый, но тоже преждевременно умерший юноша, Н. В. Водовозов, не без успеха дебютировавший своими статьями в журнальной литературе; впрочем, его позиция была какой-то «средней». Завязался ряд рефератов и прений по ним. Начало было положено чтением рукописной полемической статьи против «субъективной социологии», принадлежавшей перу Винярского; статья была, насколько помню, едко-саркастической, но без уменья — или без желания вникнуть глубже в существо позиций, на которые велась атака. Кроме Омирова, марксистам одушевленно оппонировал симпатичный юноша Крашенинников, ответивший собственным рефератом — сатирической полубеллетристикой. Он рисовал современного Пан-глосса, глубокомысленного доктринера, которой между прочим хочет дать сыну научно-эволюционное воспитание, проведя его через каменный, бронзовый и железный век, через «охотничий», пастушеский и т. д. быт, ибо только «пройдя все стадии» истинного, «имманентного», диалектически-правильного развития, но никак не через авантюристские попытки «перескочить» через эти стадии, может получиться современный культурный человек, способный жить в условиях современного технико-культурного прогресса. Кулаковский не остался в долгу и придумал хитроумную комбинацию, которая должна была «поймать в ловушку» сторонников субъективизма: именно, он тщательно выискал у Герцена все, на его взгляд, наиболее слабые или наиболее парадоксальные места, и составил из них «Размышления субъективиста», которые и преподнес публике, как свое сочинение, опыт сатирического изображения логики и психологии «субъективистов».
Кулаковский ожидал, что на его «сатиру» накинутся так же, как на реферат Винярского, с обвинениями в непонимании, искажении взглядов, карикатур; а тогда он с торжеством заявил бы, что «своя своих не познаша», и субъективисты — живая карикатура на самих себя. Словом, по замыслу это должны были быть «Ерistulа оbscurorum virorum» (письма темных людей) Эразма Роттердамского, только навыворот. Но замысел не удался: среди «общества русских студентов» было не мало людей, сразу признававших ех unguае lеоnеm, лишь иронически поблагодаривших референта за то, что он доставил им удовольствие лишний раз выслушать блестящий стиль Герценовских писаний. Все перипетии этих словесных схваток живо захватывали и меня. «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней»; семнадцатилетний восьмиклассник гимназист тоже написал реферат, на тему о философских основах субъективизма. Члены общества, среди которых были солидные бородачи, по два и по три раза вылетавшие из разных университетов, понюхавшие и тюрьмы, и каторги, очень терпеливо и снисходительно выслушали мои выкладки о свободе и необходимости, роли личности в истории и субъективизме.
Состав студенчества был вообще довольно красочный. Выделялись недавно вернувшиеся из ссылки народовольцы: угрюмый, молчаливый Эрнст, присяжный шутник и остроумец Шарый, снабжавший всех такими меткими и прилипающими к людям кличками, что их и ножом не отскребешь; был и кружок украйнофилов, в центре которого стояли братья Френкели. Словом, разнообразие было большое.
После узкого круга саратовских знакомцев, каким контрастом была эта богатая галлерея типов! Но этого мало: на рождественские каникулы я съездил в Петербург, где меня познакомили с тамошнею выпускной гимназической молодежью и молодым студенчеством. Я побывал в кружке, которым руководил студент Н. Д. Соколов, горячий и нервный до самой последней степени, болезненно вздрагивавший от малейшего неожиданного стука, Тут был сын писателя Л. Оболенского, которому отец уже давал для рецензий разные легенькие книжки; сын критика А. Скабичевского; не по летам вдумчивый и серьезный Макс Келлер, братья Никитинские и др.
Почти все они потом были привлечены по делу петербургской «группы народовольцев», изобличенные в занятиях с рабочими кружками. Петербургские знакомства были крупным событием в моей жизни. Прежде всего я в первый раз благодаря им попал в большой кружок, составленный из сливок петербургского студенчества того времени; затем, я впервые увидел свеже отпечатанные прокламации действующей революционной организации.
Собрание студенческого кружка было где то на Васильевском острове. Реферат читал студент А. В. Федулов, на тему о философских основах социологического знания. Тема была знакомая: тогда как раз я усиленно «вгрызался» в две вещи: «Теорию науки и метафизику» Алоиза Риля и первый том «Капитала» Маркса. Референт обладал ясным, выразительным, образным, хотя и лишенным пафоса стилем, отчетливой формулировкой мыслей, чеканной фразировкой. Может быть по внутреннему складу это был более популяризатор и педагог, чем полемист и дебатер, более лектор, чем оратор, во всяком случае, насколько я могу судить по таким давним воспоминаниям, это был чрезвычайно способный юноша. Мне нравилась его манера, простая, спокойная, не лишенная сквозившего сознания внутренней уверенности. Нравилась вдумчивость и уравновешенность. Нравилась джентльменская внимательность к возражениям, и хладнокровие в пылу спора.