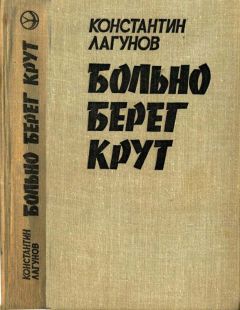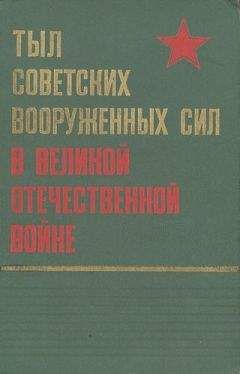Константин Лагунов - Так было
Так что же, собственно, изменилось с тех пор?
Сам я подзачерствел, все как-то притупилось. Неужели так рано отцветает человек? Или это работа съедает все силы? Люди превратились в маленькие части гигантской машины войны, которая работает на последнем напряжении. Люди крепче машин. И все же они люди. Кто-то сказал — человек крепче железа и нежнее цветка. Пожалуй, это верно, хотя и слишком слащаво… Ага, отпускает. Надо же было этим осколком сыпануть в живот. Хватило бы по ногам. Отлежался и сейчас был бы со своей частью где-нибудь под Ржевом. А может быть, сейчас меня не было бы вовсе? Как Ефименко. Взрыв — и никаких следов. Что значит никаких следов? Фрицев от Москвы поперли — это его следы. Первый, самый страшный натиск сдержали — тоже его следы. Верить стали в силу свою и в победу — и это его следы. Правда, фамилии Ефименко не будет в будущей летописи войны. Ну и пусть. Разве мы помним все имена тех, кто брал Зимний, штурмовал Перекоп? Замученных, расстрелянных, погибших от тифа и ран? Но от того, что мы не помним их, они не ушли из жизни бесследно. Да и вовсе неправда, что мы их не помним. Помним и преклоняемся. Только не перед кем-то одним. Поток, вращающий колесо турбины, состоит из капель. Но как бы ни был стремителен полет капли, ей не сдвинуть турбину. Только в едином потоке сила капли.
Что-то я хотел не забыть. Что же это? Ах да. В Луковке учителя сидят без дров. У вдовы-учительницы тяжело болен ребенок, и она ходит по соседям, побирается по охапочке. Нарочно не придумаешь. Надо позвонить туда утром. Нам бы заврайоно хорошего. В районе почти полтысячи учителей, а выбрать нелегко. Кто бы подошел на эту должность?..»
Василий Иванович не спеша стал перебирать в памяти фамилии известных ему учителей.
Боль прошла. Он вздохнул глубоко и облегченно…
Проснулся от тонкого скрипа половиц. Как ни осторожно шагала Варя, а все равно разбудила его.
Голова была тяжелая. Набрякшие веки слипались. Во рту сухая горечь.
Когда жена, тихонько притворив за собой дверь, вышла, Василий Иванович щелкнул зажигалкой, посмотрел на часы. Без двадцати семь. Можно полежать еще минут пятнадцать. В семь поднимется Юрка. Он — в первую смену.
Нащупал на подоконнике кисет. Закурил.
Дверь приоткрылась, впустив широкую струю неяркого желтого света. В щель просунулась голова сына. Мальчик спросил шепотом:
— Ты не спишь, папа?
— Нет, — вполголоса отозвался Василий Иванович, — заходи, заходи.
Юрка проскользнул в комнату. Упал на колени перед кроватью. Обнял отца за шею, крепко прижался щекой к его груди и затих.
Василий Иванович запустил руку в мягкие нечесаные волосы сына и стал их ворошить. Юра посапывал от удовольствия. «Ишь, медвежонок», — с нежностью подумал Василий Иванович.
— Как у тебя сердце бьется, — размякшим голосом проговорил Юра.
— А как?
— Как машина. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. И не устает.
— Устает, сынок. И еще как. Стучит, стучит, а потом — раз и остановилось.
— И что?
— И все. Был человек, и не стало. Умер.
Мальчик вздрогнул, теснее прижался к отцу. Василий Иванович пошлепал ладонью по щеке сына.
— Двоек-то нет у тебя?
— Ум, — промычал тот.
— А троек?
— Ум.
— Молодец.
— А у нас собирают теплые вещи для Красной Армии. Лариса Францевна сказала, чтобы каждый обязательно принес что-нибудь шерстяное. Я взял твои носки, которые мама связала, и шарф. А мама шарф отняла. Говорит, и одних носков хватит.
«Чего это на нее нашло?» — подумал Василий Иванович. Неуверенно проговорил:
— Как мама сказала, так и делай.
— Я шарф-то хотел Женьке Шарыгину отдать. У него никаких теплых вещей нет. Они эвакуированные. А отец у Женьки во флоте. В Заполярье. Там знаешь какой холодина. Вот я и хотел шарф Женьке. Пусть он пошлет отцу. А то все принесут, а он — нет. Наша Францевна знаешь как распыхтится.
— Нельзя так учительницу называть.
— Ее все так называют.
— Значит, мать не велела, а ты все же хочешь взять шарф.
— Я же для Женьки…
— Ладно. Забирай. Матери я сам скажу.
— Спасибо. — Юра чмокнул отца в щеку и убежал.
Сухо потрескивала цигарка. Несколько глубоких затяжек — и вся сонливость пропала. Василий Иванович сел на кровати. Остро кольнуло под ложечкой. Он замер в ожидании, но боль не возобновилась. Облегченно вздохнул, встал, прошелся босыми ногами в угол комнаты, где на спинке стула висели гимнастерка и галифе.
Завтракал он в кухне.
— Куда ты ни свет ни заря? — ворчала Варя. — Можно хоть дома-то поспать по-человечески. Есть толком не ешь и спать не спишь.
Василий Иванович медленно тянул молоко и молчал. Он уже не раз слышал все это. Поначалу его сердила Варина ворчня, и Василий Иванович начинал спорить, доказывая, что он не имеет права по-иному жить, потому что он коммунист, и не просто коммунист, а секретарь райкома. Но Варю нелегко было убедить. «Вас, коммунистов-то, побольше тыщи в районе, — говорила она, — а много ль таких одержимых? Я все понимаю. Но надо же и о себе подумать. Так ты и до сорока не дотянешь: либо на пенсию уйдешь, либо совсем…» Несколько раз они даже крепко поругались. И на сей раз тоже, придвинув мужу тонкий ломоть вязкого черного хлеба, Варя сказала:
— С твоим желудком разве таким хлебом надо питаться? Тут и здоровый-то не переварит. Достал бы муки пудика два. Спекла б тебе блинчиков или шанежек с картошкой. Да мало ли чего можно приготовить. Ну, хоть пуд.
— Где же ее взять? — не выдержал Василий Иванович. — Ты ведь прекрасно знаешь, что муки нет. Только детским учреждениям. И то с боем достаем.
— Знаю. Все знаю. Идеалист ты. Карась-идеалист. Где-то достают другие. Федулин не живет без муки. Не обеднеет район, если ты в месяц пуд муки на себя потратишь.
— Мы и так неплохо живем. Корова своя. Овощи есть. Даже сахар бывает. Чего ж еще надо?
— Для других ты все можешь, а для себя… Воз сена в колхозе купить боишься. А люди…
— Настоящие люди воюют, — перебил он. — Воюют или трудятся. До полного изнеможения. Миллионы людей голодают. Ты можешь это понять? Или вправду — сытый голодного не разумеет. И кончим об этом. — Сердито пристукнул по столу пустой кружкой. — Я ничего не хочу сверх того, что мне положено. И ты не толкай меня в болото. Слышишь?
— Да я что… Я же для тебя хотела, — примирительно заговорила жена. — Мы с Юркой и на картошке проживем. А ты — больной. Я о тебе не позабочусь, кто же тогда? Ты ведь можешь и голодным и разутым ходить. Я тебя знаю.
— Плохо знаешь, если предлагаешь такое. — Василий Иванович вынул из чугуна горячую картофелину, покатал на ладони и принялся очищать кожуру. Круто посолил ее, сунул в рот и медленно зажевал, прихлебывая молоко.