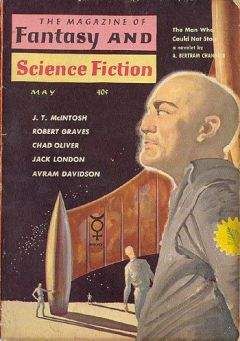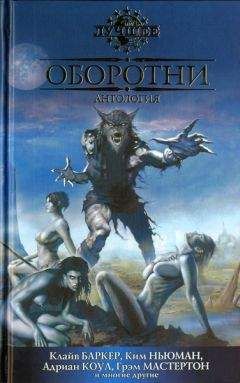Александр Воронский - За живой и мёртвой водой
Коммуна наша распадалась. Казанский, Денисов сняли отдельную комнату. Любвин переселился к знакомому железнодорожнику.
Жорж и Валентин помирились в ту же ночь на явочной квартире. Жорж сказал миролюбиво Валентину:
— Ну, брось, ерунда. Это я так — подзадорить тебя хотел. Ты ничего парень.
Валентин, хмурясь, выпячивая пухлую верхнюю губу, не глядя на Жоржа, ответил:
— Конечно, ерунда. Только не разговаривай ты со мной в таком тоне о Лиде и о поэзии.
Жорж полуудивлённо заметил:
— А ты с норовом.
Расстались они друзьями. Ян остался в городе.
Две жизни
Есть две жизни. Они не сливаются друг с другом. Одна рассыпается по улицам и площадям суетливо бегущими, шагающими, гуляющими людьми, — она бьётся в деловом гаме фабрик, в мерном лязге поездов, она — в кафе, в кабаре, в редакциях газет, в театрах, в диспутах, на собраниях; она мирно, спокойно и сыто проходит в уютных квартирах, в грубой, но крепко сколоченной избе крестьянина, пахнущей ржаным хлебом, овчиной, потом и кожей хомутов. Эта жизнь — на виду, на глазах. Она никуда не прячется, не таится.
Есть другая жизнь. Притаилась она на кроватях и койках умирающих, изъеденных болезнями, в бараках и госпиталях, в богадельнях и инвалидных домах, в одиноких комнатах, где пахнет лекарством и где на человечьи, ещё живые лики уже легла гибельная гиппократова тень; эта жизнь несёт своё безмерное бремя в углах, откуда слышится бессильный старческий шёпот и где душит гнилостный запах вечного и непоправимого увядания когда-то, может быть, прекрасного тела. Такая жизнь никнет матерью, сестрой, мужем, женой у праха, у последнего дыхания любимых, единственных, неповторимых, у могил, уже ненужных, уже забытых всем миром. Тщетно иногда она напоминает, зовёт к себе истошным криком, воплями, звериным, нечеловеческим воем, напрасно она молит, жалуется, говорит последними смертными словами — обычная, нормальная жизнь, жизнь-победительница, умеет заглушить её, другую жизнь, жизнь юдоли, скорби и мук, умеет сделать её неприметной для нас.
…Сестра моя Ляля уже не вставала с постели, когда я приехал в родное село. Её юное лицо сделалось бескровным, только на щеках играли два отчётливых жарких пятна. Тонкие, длинные пальцы просвечивали, глаза расширились, их блеск был влажен и опасен. Она лежала в девичьей, чистой, строгой кровати, негромко кашляла, то и дело подносила ко рту резиновый мешочек для собирания мокроты.
Она встретила меня слезами и подробными расспросами: как я жил, почему разгромили семинарию, не приходится ли голодать, что я намерен делать дальше, не думаю ли я поступить в университет?
— А я вот умираю. Недавно опять шла горлом кровь, после этого совсем почти перестала вставать. Совсем обессилела. Маме со мной тяжело. У ней так много забот: просфоры, хозяйство; тебя уволили, а тут ещё со мной приходится возиться.
Я робко ободрял её. Она бледно усмехалась, качала головой.
— Нет, не жилица я на свете. Скоро помру. Исстрадалась я, живого места во мне нет. Кляча я стала. Помнишь — какие волосы у меня были, все повылезли, теперь остриглась.
Она крутилась, натягивала на себя одеяло, гладила мне руку, тонкие, высохшие губы её были немощны.
— Когда я училась, я очень любила во время всенощной в епархиальном училище слушать «Свете тихий». «Свете тихий, святые славы бессмертного, отца небесного, святого блаженного…» Стоишь и думаешь неизвестно о чём, немного грустно… хорошо, спокойно. Лучше не вспоминать об этом… Я надоела тебе? Ты обо мне не думай, ты себя береги. Тебе тоже будет трудно.
Она задремала.
На другой день я застал сестру в кресле. На коленях у неё лежала книга в коленкоровом переплёте. Она медленно перелистывала её.
— Посмотри, какие тут страшные рисунки.
Я перелистал книгу, историю религии, не помню, какого автора. Тут были идолы лысые, с миндалевидными полузакрытыми глазами, с отвислыми животами и грудями, начинавшимися у самой шеи; звероподобные идиоты, клыкастые, с ощеренными зубами и вывороченными губами; божки с асимметрическими черепами, со срезанными покатыми лбами, с неправдоподобно-удлинёнными затылками; головы, похожие на жаб, и лица, напоминающие летучих мышей; уроды с плотоядными челюстями, с тощими и недоразвившимися туловищами, дьявольские маски с разорванными ртами и оттопыренными, огромными ушами, застывшие в диких и отвратительных гримасах, искажённые болью и судорогой рожи; немощные старики, безобразные женщины, жалкие, едва обделанные куски камня и дерева, наивные и глуповатые подобия животных и людей с бессмысленными, выпученными глазищами, страшные, гибридные, отталкивающие фигуры.
— Зачем это тебе, откуда ты взяла эту книгу? — спросил я, удивлённый.
— У отца Николая нашла. — Она откашлялась и, глядя поверх меня своими правдивыми, ранеными глазами, изнеможённо заговорила: — Я часто думаю над этими рисунками. Как ужасно и тяжко жилось и живётся людям, если они поклоняются таким чудовищам! Где-то я читала, что в своих богах, в верованиях люди олицетворяют себя и окружающее, они вкладывают в них свои представления, своё понимание жизни. Должно быть — это правда. Значит, вот эти изображения — мысли и чувства о судьбе, о роке, о том, что есть, было и будет, они — наглядные записи, символы того, как люди чувствуют, осмысливают жизнь. Тут всё страшно, мрачно, непонятно, зловеще. Как будто раскрываются тёмные недра, пучины, на дне их копошатся, ворочаются и ползают невообразимо-отвратительные твари. Я увидела их теперь. Я не могу часто от них спать, они меня преследуют… Жалкий, дрожащий, трепещущий от страха и ужаса человек извивается, молит, падает ниц в прах пред грозными мерзкими воплощениями своей фантазии, ненавидит, и надеется, и проклинает, и заклинает, и снова создаёт бредовые образы, и венчает их, несёт, отдаёт им лучшее и заветное… Сколько мрака, неизгладимых мук, горя, страданий, какой страх нужно испытать, чтобы выдавить из себя вот это… — Сестра показала на книгу, руки у неё дрожали. — Ты подумай об этом. И каким забитым, униженным, ничтожным должен чувствовать себя человек пред этими тварями! В них собрано, запечатлено всё человеческое горе и его унижение и ужас перед жизнью… Года два назад я возвращалась домой с родными из Ерёминки в рождественские дни. Была вьюга, мы заплутались, ночь провели у омета. Мы были тепло одеты, но к утру всё же я иззябла. Когда рассвело, метель прекратилась, небо очистилось от туч. Вставало холодное, равнодушное, багровое солнце в туманной изморози. Я знала, что оно не согреет меня, но с надеждой и с отчаянием ждала его. Я куталась, дрожала и чувствовала себя маленьким, диким, беззащитным комочком. Я смотрела, как поднималось моё божество, моё счастье, моя надежда, вся моя жизнь. Я завишу от него целиком, вся, а оно было неприветное и смотрело на меня злым кровавым оком, как лихо одноглазое…