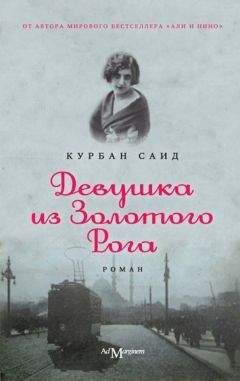Владислав Бахревский - Никон
— По мне, хоть бы кто, — сказала Долгорукая.
— Ну как же, матушка, хоть бы кто? — пристыдила ее Анна Ильинична, она в разговоре чувствовала себя свободно, в любом доме московском, всюду первая, окромя только Терема кремлевского. — Нет, матушка, так нельзя! Велик ли был прок от Иосифа, царство ему небесное! Ветром его колыхало, голоса не слыхать… А Никон — ростом с Ивана Великого, статью благороден, и на лице величье. А голос! Ясный, с рокотом. Глаза сверкающие, на челе отвага и ум.
— Стефан Вонифатьевич тоже неплох, — сказала Федосья Прокопьевна. — Седовласый, кроткий, разумный. Слова впопыхах не скажет.
— Стефан Вонифатьевич, верно, неплох, — согласилась Анна Ильинична, — только он опять же патриарх для старцев. А молодых на свете больше. Старик телегу не поменяет…
— Ну а что же можно в церковном деле поменять?! — удивилась Федосья Прокопьевна.
— О церковных делах я не больно знаю, — сказала Анна Ильинична, — а то, что в вере упадок, а в народе всяческий разврат — это есть. Народу нужен строгий пастырь. Громогласый. А то и попы-то как следует разучились службы служить. Про народ и не говорю. Ворожеям у нас верят больше, чем попам.
— Что правда, то правда, — откликнулась Долгорукая. — В моей деревеньке одна баба по злобе нашептала на корову соседкину, и та корова принесла теленка с двумя головами.
— Страсть какая! — ужаснулась Анна Ильинична. — Сама видела?
— Видела.
— Вместо хвоста голова-то?
— Да нет, хвост один, а головы две, рядышком.
— Ну и чего?
— А ничего! Забили того телка да сожгли за околицей от греха!
— Правильно сделали. Грех как вошь — заведется, потом не вычешешь!
— В девушках я еще жила, — разрумянясь, заговорила Долгорукая, — в селе, повадилась к нашей кухарке поповская дочка похаживать. Как придет, так что-нибудь и стрясется. То кухаркин сын в подпол упал, то истопнику по голове кирпичом попало: заслонку вытягивал — кирпич и выпади! Ну и всякое. Куры вдруг попередохли, поросенок на передние ноги сел. И вот пришла поповна в очередной раз, а кухарка, не будь дура, и говорит: «Молочка холодного достану!» — и в подполье. Да в то самое место, где поповна на лавке сидела, и воткнула нож в доску. Все отобедали, а поповна, злыдень, сидит. Отвечеряли — сидит. Как шелковая! Постели уж постелили. Тут кухарка полезла в подполье да и вынула ножик. Вскочила поповна, как кошка, и бежать. Только ее и видели.
— А ты, голубушка, что помалкиваешь? — спросила Анна Ильинична полковничью жену Любашу. — Али кушанья боярские тебе в такое удивление, что и слова все позабыла?
Федосья Прокопьевна побледнела от такой высокомерной глупости, но как царицыну сестру на место поставить?
— Правда истинная! Всё мне в новинку за таким столом, — ответила с улыбкой Любаша. — А слова мои при мне. Только они глупые, не боярские.
— А расскажи нам, голубушка, чем вы, жены служилых людей, тешите себя в праздники? — продолжала допрос Анна Ильинична.
— У нас праздников мало. Работаем, хозяйствуем помаленьку. Неделю назад, на Леонтия, огурцы садили, рябину замечали. На Феодосия — рожь.
— Как это — рябину замечали? — не поняла Анна Ильинична.
— Если в приметный день цветов на рябине много, то овсы хорошие будут. Нынче как раз рябина вся в пене от цветов. А на Феодосия рожь должна колос дать. Она ведь две недели зеленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, а там уж и две недели подсыхает. Еще у нас на Феодосия скотину печеными сочнями кормят, чтоб плодилась хорошо… Ну да разболталась я. Мне вас, больших людей, послушать.
— А ты еще скажи! Уж очень это презанятно — зеленится, колосится! — потребовала Анна Ильинична.
— Могу еще, коли желаете слушать, — снова улыбнулась Любаша, взглядывая на напрягшееся лицо Федосьи Прокопьевны. — Нынче третье, а первого восход солнца смотрят. Восход был на пасмурное небо, а это обещает хорошую коноплю да долгий лен, зато рожь будет не так обильна. В нынешний день течение ветров замечают.
— Ну и что сказали тебе ветры? — спросила Анна Ильинична.
— Сырая погода будет, ветер нынче — сиверко.
— Откуда же ты все знаешь?! — удивилась Долгорукая.
— Свекровь научила. Земли у нас было мало. Вот матушка и говаривала: «Нам с погодой прошибиться нельзя. Прошибемся — наголодуемся». Потому все замечала, стариков любила спрашивать, с нищими беседовала. Соберет всех в горнице, кормит и спрашивает.
— Скажи-ка мне чего-нибудь наперед, я Марию-сестрицу удивлю, — попросила вдруг Анна Ильинична.
— Восьмого, на Федора Стратилата, если гром и молния будут — худой вестник. Сено замочит. Если большая роса будет, то лето жди сухое, но льну и конопле урону не станет. На Тимофея, десятого, к голодному году — мыши по чуланам стаями бегают. Бывает, что и земля стонет.
— А ты про хорошее скажи. — Анна Ильинична уже не насмехалась над бедной полковничихой, черные глаза ее сияли любопытством.
— На Мефодия, двадцатого, примета есть. Коли над озимым хлебом паутина или мошкара — жди на этом месте перепелов.
— Ну зачем это мне перепела? — закапризничала Анна Ильинична.
— Тебе-то, конечно, не надобны, у тебя все есть, а охотники такие места ищут и сидят во ржи до самой ночи, белого перепела ждут. Белый перепел хозяин всех перепелов. Великой данью от охотника откупается.
— А не желаете ли посмотреть павлинов? — спросила гостей Федосья Прокопьевна.
Все пожелали, и очень боярыням повезло, потому что все четыре самца раскрыли хвосты, и Любаша простодушно воскликнула:
— Я нынче как в тридевятом царстве!
Посидели боярыни в теремке молча, послушали райское пение заморских птиц.
— А не пора ли тебе к гостям выходить? — спросила Анна Ильинична хозяйку, и та встрепенулась, поспешила в дом переодеваться.
Мужчины праздновали отдельно, но хозяйка должна была каждого гостя почтить выходом.
В розовом шелку да атласе поздравляла чашей Федосья Прокопьевна старшего на пиру Бориса Ивановича Морозова.
— Как заря утренняя! — воскликнул боярин, любуясь невесткой.
К князю Долгорукому Федосья Прокопьевна вышла в изумрудном наряде с изумрудными пуговками. И зеленое тоже было к лицу молодой боярыне.
Царева ловчего Матюшкина она приветствовала в тяжелом золотом, византийской работы одеянии.
— Ах, еще бы чеботы из пурпура — была бы ты императрица царьградская, — снова не смолчал Борис Иванович.
В четвертый раз к брату Федору вышла она в белом атласе, в жемчужном кокошнике. И молчали мужчины, изумленные благородством и красотою супруги Глеба Ивановича.