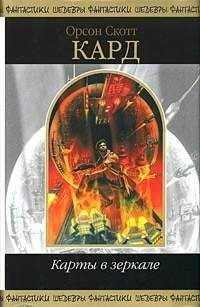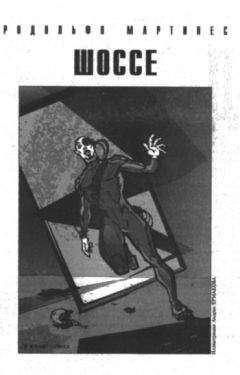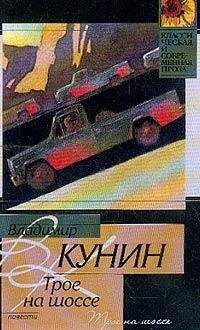Рита Райт-Ковалева - Роберт Бернс
Что же еще читал Роберт своему другу? Уж, конечно, не переложения псалмов и не мрачные покаянные молитвы. Тогда уже были написаны отличные строки о войне и о любви:
Прикрытый лаврами разбой
И сухопутный и морской
Не стоит славословья,
Готов я кровь отдать свою
В том жизнетворческом бою,
Что мы зовем любовью.
Я славлю мира торжество,
Довольство и достаток.
Приятней сделать одного,
Чем истребить десяток!
И наверно, Роберт напел ему свою любимую песню, и Ричард сразу узнал знакомую старую шотландскую мелодию, вслушиваясь в новые, придуманные Робертом слова:
Трех королей разгневал он,
И было решено,
Что навсегда погибнет Джон
Ячменное Зерно.
Велели выкопать сохой
Могилу короли,
Чтоб славный Джон, боец лихой,
Не вышел из земли.
Травой покрылся горный склон,
В ручьях воды полно,
А из земли выходит Джон
Ячменное Зерно.
Все так же буен и упрям,
С пригорка в летний зной
Грозит он копьями врагам,
Качая головой.
Но осень трезвая идет,
И, тяжко нагружен,
Поник под бременем забот,
Согнулся старый Джон.
Уже не один, а два голоса поют о буйном и упрямом Джоне, который грозит врагам: Ричард басом гудит мелодию, а Роберт отчетливо скандирует слова:
Настало время помирать —
Зима недалека.
И тут-то недруги опять
Взялись за старика.
Его свалил горбатый нож
Одним ударом с ног,
И, как бродягу на правеж,
Везут его на ток.
Дубасить Джона принялись
Злодеи поутру.
Потом, подбрасывая ввысь,
Кружили на ветру.
Он был в колодец погружен,
На сумрачное дно.
Но и в воде не тонет Джон
Ячменное Зерно.
Не пощадив его костей,
Швырнули их в костер,
А сердце мельник меж камней
Безжалостно растер.
Бушует кровь его в котле,
Под обручем бурлит,
Вскипает в кружках на столе
И душу веселит.
Недаром был покойный Джон
При жизни молодец —
Отвагу подымает он
Со дна людских сердец...
Так пусть же до конца времен
Не высыхает дно
В бочонке, где клокочет Джон
Ячменное Зерно!
Через два дня Роберт прощается с Ричардом: корабль Брауна уходит в Южную Америку, а двуколка тарболтонского почтаря увозит Бернса в Лохли. Брауна встретят штормы и шквалы, жаркое солнце и смуглые красотки с веерами из пальмовых листьев. Его друг возвращается в крытый соломой дом, где его дожидаются больной отец, угроза выселения, постаревшая мать и притихшие, полуголодные братья и сестры. Снова его ждут тяжелый четырехлемешный плуг, отощавшие кони, работа с рассвета до поздней ночи, — весной земля требует от человека все, что он может ей дать.
Но теперь никто не собьет Роберта Бернса с пути: он хочет «ударить по струнам своей дикой сельской лиры» в благородном соревновании с Фергюссоном.
Конечно, у него нет настоящего образования, он вырос за плугом, и, несомненно, на его произведениях будет лежать отпечаток грубой деревенской жизни. Но он уверен, что все написанное им — его собственные, нигде не заимствованные мысли и чувства.
«Может быть, какой-нибудь любознательный наблюдатель человеческой природы заинтересуется тем, что думает и чувствует землепашец под влиянием Любви, Честолюбия, Заботы, Горя и всех тех тревог и страстей, которые, несмотря на разницу в условиях и образе жизни, одинаково свойственны всему роду человеческому...»
Эти мысли Роберт заносит в свою первую записную книжку. На заглавном листке он выводит отчетливыми красивыми буквами:
«Наблюдения, заметки, песни, отрывки из стихов и так далее, — Роберта Бернса, человека, не искушенного в искусстве наживать деньги и тем более копить их, но вместе с тем обладающего некоторым умом, безусловной честностью и бесконечной доброжелательностью ко всем творениям — разумным и неразумным...»
О чем только не пишет Роберт в этой тетрадке по вечерам, после работы! Он философствует, разбирает свои стихи, он рассуждает о том, что такое хорошие и плохие люди:
«Я часто замечал, сталкиваясь с жизнью людей, что в каждом человеке, даже самом скверном, есть что-то хорошее... Поэтому никто не может сказать, в какой степени другой человек по справедливости может быть назван порочным. Пусть тот, кто имеет среди нас репутацию самого строгого и добродетельного человека, беспристрастно проверит, какому множеству пороков он никогда не предавался, но не вследствие стараний или осмотрительности, а исключительно из-за отсутствия каких-либо возможностей или по случайному стечению обстоятельств; сколь многих прегрешений человеческих он избежал оттого, что на его пути не вставало искушение, и как часто он обязан добрым мнением света тому, что свет о нем далеко не все знает. И я хочу сказать, что человек, понимающий все это, будет смотреть на проступки, нет, даже на грехи и преступления окружающих его людей глазами брата...»
Со страниц этой записной книжки на нас умными, строгими глазами смотрит человек незаурядного ума, редких способностей и необычайной душевной чуткости.
Больше всего на свете он ненавидит фальшь и притворство.
«Шенстон справедливо замечает, что любовные стихи, написанные без истинной страсти, одна из самых жалких затей на свете. Я часто думал, что нельзя быть подлинным ценителем любовных стансов, если ты сам однажды или много раз не был горячим приверженцем этого чувства... Что до меня, то я не имел ни малейшего намерения или склонности стать поэтом, пока я искренне не влюбился, а тогда рифма и мелодия стиха стали в какой-то мере непосредственным голосом моего сердца...»
И Роберт вспоминает свои первые стихи, написанные в ранней молодости, когда его сердце «пылало непритворным, простодушным и горячим чувством».
Но как же достается этим «безыскусным строкам» — первой песенке о маленькой Нелли! С какой беспощадной строгостью двадцатичетырехлетний поэт разбирает свои юношеские опыты!
Первое двустишие слишком легкомысленно и примитивно, второе — слишком напыщенно и серьезно. И хотя третья строфа автору нравится, но зато в последней много мелких ошибок: нехороши обрубленные строки, вял заключительный образ... «Но я помню, с каким восторгом и страстью я сочинял эту песню, и до сих пор сердце мое тает и кровь бурлит при одном воспоминании», — заканчивает он эту запись.