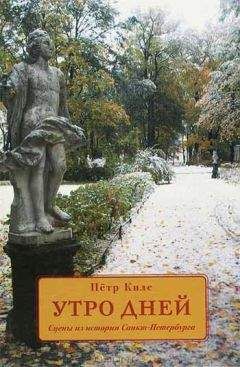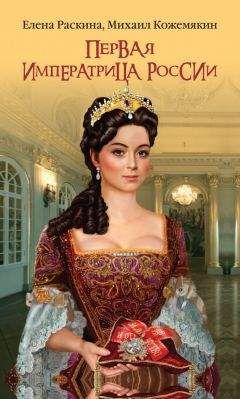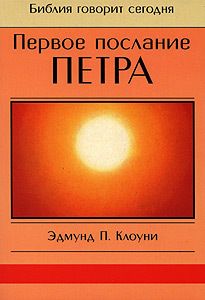Владислав Шпильман - Пианист
Конвоиры никого не подпускали к этим машинам, несмотря на то что те были бронированы. Сворачивая на Кармелитскую, гестаповцы высовывались из автомобилей и били наотмашь палками по толпе, такой плотной, что даже при большом желании никто нe мог укрыться в подворотне. Будь то обычные резиновые палки, это еще можно было пережить, но гестаповцы пользовались такими, из которых торчали бритвы и гвозди.
Иегуда Зискинд жил на улице Милой, недалеко от места ее пересечения с Кармелитской. Он был сторожем, а при случае — носильщиком, возчиком, торговцем и контрабандистом: нелегально перебрасывал товары через границу гетто. Прирабатывал везде, где только мог, употребляя все свои силы и хитрость на то, чтобы прокормить семью, численность которой я не мог определить даже приблизительно, так она была велика. Если оставить в стороне его обычные занятия, то Зискинд был человеком, полным идеалов. Как член тайной организации он провозил листовки в гетто и пытался заниматься здесь нелегальной деятельностью, хотя давалось ему это с большим трудом. Относился он ко мне с некоторым пренебрежением, как следовало, с его точки зрения, относиться к артистам — людям, не пригодным к подпольной работе. Все же я ему нравился, и он позволял мне ежедневно заходить к нему домой, — читать свежие новости, тайно полученные по радио и только что распечатанные. Иегуда относился к решительным оптимистам.
Вспоминая сейчас о нем, после всех страшных лет, отделяющих меня от тех дней, когда он был еще жив и нес свои добрые вести людям, я восхищаюсь его стойкостью. Не было ни одного зловещего сообщения по радио, которое он не смог бы истолкавать в лучшую сторону. Однажды, прочитав последние известия, я в отчаянье ударил рукой по газете и вздохнул: «Но теперь вам придется, наконец, признать, что все пропало». Зискинд улыбнулся, взял сигарету, уселся поудобнее в кресле и со словами: «Господин Шпильман, вы ничего не понимаете, ничего!» начал свою очередную лекцию по политике. Из его речей я понимал немного, но сама его манера говорить была отмечена твердой, передающейся слушателю верой в то, что все идет как надо и, сам не зная как, я проникался тою же уверенностью. От Иегуды Зискинда с улицы Милой я всегда возвращался назад ободренный. И только уже дома, лежа в постели и снова, который раз, анализируя политические события, я приходил к заключению, что выводы Зискинда абсурдны. Но следующим утром я опять отправлялся к нему, позволял себя переубедить и уходил с новой дозой оптимизма, которая действовала до самого вечера и давала мне возможность выжить.
Зискинд попался только зимой 1942 года. С поличным: на столе лежали стопки листовок, а Иегуда с женой и детьми сортировали их. Всех расстреляли на месте, не пощадив даже их маленького сынишки — трехлетнего Симхи. Как же трудно стало мне надеяться на лучшее, когда убили Зискинда и не осталось никого, кто мог бы мне все как следует объяснить! Только теперь я понимаю, что прав был не я и не эти сообщения, а Зискинд. Позднее все случилось именно так, как он предрекал, хотя тогда мы не могли в это поверить.
Домой я возвращался той же дорогой: по Кармелитской, Лешно и Желязной. По пути заглядывал к друзьям, чтобы передать им новости, услышанные от Зискинда. Потом шел на Новолипки помочь Генрику тащить корзину с книгами.
У Генрика была нелегкая жизнь. Он сам ее себе устроил и даже не пытался ничего в ней менять, потому что считал, что жить иначе было бы недостойно. Знакомые, ценившие его гуманитарные способности, советовали ему поступить в еврейскую полицию. Туда в целях самосохранения шло большинство молодых людей из интеллигенции. Сверх всего, там при небольшой ловкости можно было хорошо зарабатывать. Но Генрик отвергал такие советы. Они даже возмущали его, он воспринимал их как оскорбление. Со свойственной ему суровой порядочностью он отвечал, что не намерен сотрудничать с бандитами. Знакомые обижались, а Генрик каждое утро начал ходить на Новолипки с корзиной книг. Он торговал ими, в любую погоду, в летнюю жару и зимнюю стужу, не сдаваясь и твердо стоя на своем: если его, интеллектуала, лишили иных занятий с книгами, то пусть останется хотя бы это, а опуститься ниже — он себе не позволял.
Обычно, когда мы с Генриком, неся корзину, возвращались домой, все были уже в сборе и ждали только нас, чтобы приступить к обеду. Мать придавала большое значение общим трапезам — это был ее способ нас поддерживать. Она следила за тем, чтобы стол, накрытый чистой скатертью и салфетками, был красиво сервирован. Прежде чем сесть за стол, мать смотрелась в зеркало, проверяя, элегантный ли у нее вид, слегка пудрилась, поправляла волосы и нервным движением рук разглаживала платье. Но как было разгладить морщины вокруг глаз, которые с каждым месяцем становились все глубже? И ничего она не могла поделать с тем, что ее пепельные волосы вдруг начали седеть. Когда все уже сидели на своих местах, она приносила из кухни суп и, разливая его, начинала разговор. При этом старалась избегать неприятных тем. Когда, однако, кому-нибудь из нас случалось совершить подобную неловкость, прерывала: «Увидите, все еще переменится». И чтобы сменить тему, обращалась к отцу: «Вкусно, Самуил?»
Отец не особенно стремился терзать себя. Даже пересаливал с хорошими известиями. Как-то после одной облавы, когда с десяток мужчин, благодаря взяткам, выпустили на свободу, он, сияя, уверял, будто знает из верного источника, что всех мужчин старше сорока лет, а может, младше, с образованием или без, по той или иной какой причине освободили — как бы то ни было, это очень обнадеживающий симптом. Когда из города приходили уже однозначно плохие вести, он садился за стол в подавленном состоянии, но уже за супом приободрялся. А во время второго блюда, которое теперь чаще всего состояло из одних овощей, его настроение настолько улучшалось, что он переходил к беззаботной болтовне.
Генрик и Регина обыкновенно бывали погружены в себя. Регина внутренне настраивалась на работу, куда ходила после обеда. Она служила в одной из адвокатских контор. Зарабатывала гроши, но делала все так добросовестно, как будто это были тысячи. А Генрику если и удавалось отвлечься от своих мыслей, то только затем, чтобы затеять со мной ссору. Некоторое время он бросал на меня негодующие взоры, потом пожимал плечами и, наконец, бормотал с возмущением:
— Нужно быть законченной обезьяной, чтобы носить такие галстуки, как Владек!
— Сам ты обезьяна, да к тому же еще и осел! — отвечал я, и ссора разгоралась не на шутку.
Он не хотел понять, что, выступая перед публикой, я должен был хорошо одеваться. Ничего из того, что касалось меня и моих дел, он не воспринимал. Теперь, когда его уже давно нет в живых, я знаю, что мы по-своему любили друг друга, несмотря на то что часто препирались. В сущности, мы были очень похожи.