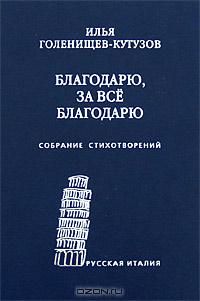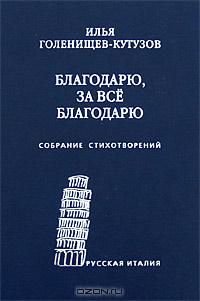Николай Петраков - Пушкин целился в царя. Царь, поэт и Натали
Глава 5
Поиски контригры
Тщательное ознакомление с литературой, посвященной изучению материалов, связанных с последними месяцами жизни Пушкина, оставляет странное ощущение. Поэту практически единодушно отводится роль пассивной жертвы. Этот образ, введенный однажды в пушкинистику, не обсуждается, принимается как аксиома. Все известные либо вновь открывающиеся факты, интерпретируются только под углом зрения принятой аксиоматики. Поэтому модель «кролика и удава» явно просматривается даже в самых смелых трактовках роли каждого из участников трагедии. Некие злые силы плетут интригу против свободолюбивого, наивного, мечтающего только о творчестве и спокойной семейной жизни в деревне поэта. А поэт полностью пляшет под дудку интриганов. Последние, используя его африканский темперамент, неумеренную ревнивость, шаг за шагом подводят поэта к вынужденным роковым поступкам. Эта канонизированная сказка никак не втискивается ни в рамки личности Пушкина, ни в многообразие дошедших до нас материалов и свидетельств очевидцев. Нестыковки между каноном и правдой заполняются пассажами о загадочности пушкинской истории, благо еще П. Вяземский «дал установку» будущим пушкинским биографам: «Эта история окутана многими тайнами…»
Но ведь не тайна, что Пушкин был человеком с огромным воображением, с интеллектом, многократно превосходящим интеллект его гонителей, да и друзей. Его искрометность, сарказм, склонность к розыгрышам, артистизм базировались на глубоком знании общественной жизни и жизни света. Пушкин был светским человеком. Он мечтал о деревенской жизни, пропускал балы в Аничковом не по причине принципиального отторжения столичной жизни, а исключительно из-за двусмысленности ситуации, в которую его поставило поведение жены. Достаточно вспомнить, как Пушкин переживал свои ссылки, как рвался он в Москву и Петербург. Мог ли создатель «Евгения Онегина», «Пиковой дамы», «Бориса Годунова», «Маленьких трагедий» стать безвольной игрушкой в руках Нессельроде и Геккернов? Неужели он не пытался организовать контригру? Откуда, наконец, у пушкинистов такая бездумная уверенность, доходящая до идиотизма, в наивности и примитивности автора «энциклопедии русской жизни»?
Да, Александр Сергеевич был «невольником чести», но никогда рабом обстоятельств. А главное, в понимании всей тонкости хитросплетений интриги, в которую его затянули многочисленные обстоятельства, Пушкин может дать сто очков вперед всем пушкиноведам вместе взятым, равно как и современникам, которые своими комментариями, дневниковыми зарисовками, поздними воспоминаниями зачастую лишь воспроизводили либо «мнение света», либо версию, запущенную самим Пушкиным. Как сказал другой поэт и по другому поводу, «лицом к лицу – лица не увидать».
И современники Пушкина, и вслед за ними пушкиноведы, эпицентром всей дуэльной истории считают анонимное письмо, полученное поэтом 4 ноября 1836 г. Это письмо, по мнению наиболее поверхностных исследователей и современников, «открыло глаза Пушкину», а по мнению других – явилось «последней каплей», вынудившей поэта пойти на отчаянный и где-то спонтанный шаг. Вспомним хотя бы свидетельство В. А. Соллогуба. «Прочитав пасквиль, Пушкин сказал: «Это мерзость против моей жены. Впрочем, понимаете, что с безыменным письмом я общаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое». В сочинении присланного ему всем известного диплома он подозревал одну даму, которую мне и назвал. Тут он говорил спокойно, с большим достоинством и, казалось, хотел оставить все дело без внимания. Только две недели спустя, я узнал, что в этот же день он послал вызов кавалергардскому поручику Дантесу». Ну, и как прикажите толковать это свидетельство очевидца? Если у Пушкина с получением пасквиля «открылись глаза», то где гнев, возмущение, откуда тогда такое самообладание, даже презрительная отстраненность? Если «последняя капля», то почему ни слова о вызове обидчика на дуэль и что за «загадочная дама»? Это свидетельство (как и многие другие) ровным счетом ничего не объясняет. На выручку приходит сам Пушкин: «Поведение вашего сына, – пишет он Геккерну в знаменитом преддуэльном письме, – было мне давно известно и не могло оставить меня равнодушным. Я довольствовался ролью наблюдателя с тем, чтобы вмешаться, когда почту нужным. Случай, который во всякую другую минуту был бы мне крайне неприятен, пришелся весьма кстати, чтобы мне разделаться: я получил анонимные письма».
Буквально в трех фразах Пушкин сказал практически все: 1) ему давно очевидна плетущаяся интрига (Геккерну, конечно, не обязательно знать, что Пушкину известны и те детали интриги, которые выходят за рамки действий Дантеса); 2) Пушкин выждал момент, чтобы активно вмешаться («когда почту нужным»); 3) и именно в тот момент, когда он решил вмешаться («весьма кстати!») подворачивается «случай» в виде анонимных писем! По Пушкину, не письма явились катализатором вызова на дуэль, а наоборот, решение «разделаться» – «случайно» совпало с появлением писем! Зная, как тщательно составлялось письмо Геккерну (можно сказать в два приема), следует полностью исключить возможность смысловой оговорки или небрежности в формулировке.
Какие, однако, «чуткие» враги у Пушкина: только он решил устроить скандал, по сравнению с которым «подвиги Раевского – детская забава», тут как тут появляются письма, дающие повод этот скандал раскрутить. Прямо телепатия какая-то. Между прочим, ни один специалист по Пушкину не задался вопросом: а что делал бы поэт, если бы пасквиля не появилось? Так бы и жил на подачки царя, мирился бы с ухаживаниями Николая I за своей супругой и сплетнями вокруг этого «царского благоволения»? Маловероятно, если не сказать невозможно. Наверное, представился бы другой случай. Но какой другой? А главное – когда? Сложившийся расклад устраивал буквально всех (включая, к сожалению, и Наталью Николаевну). Всех, кроме Пушкина. Так кто же должен вступить в игру, вызвать огонь на себя, устроить грандиозный скандал, поставив на карту собственную жизнь, и в результате разрубить унизительный ситуационный узел? Конечно, только сам Александр Сергеевич Пушкин.
Самому на себя написать анонимное письмо? Что за экзотика, где это видано?! Но зачем же так ограничивать рамки мистификации, если человек калибра Пушкина решил взорвать вяло текущий процесс, вступить в смертельную игру с самодержцем и его ближайшим окружением, диктовать условия этой игры. К тому же пример анонимного письма на самого себя как блестящей формы мистификации дал Пушкину малоизвестный в то время гусар Михаил Юрьевич Лермонтов. Собственно, в гусары сей двадцатилетний молодой человек, был произведен приказом от 22 ноября 1834 г. и начал проходить службу в лейб-гвардии Гусарском полку, расквартированном в Царском Селе. А уже зимой 1835 г. он стал героем нашумевшей истории. Некая Сушкова, засидевшаяся в 23 года в девицах, оказалась, наконец, в невестах и собиралась выйти замуж за хорошего знакомого Миши Лермонтова А. А. Лопухина. Но Лермонтов таил обиду на Сушкову за то, что она отвергла и несколько поиздевалась над его юношеской романтической любовью. Теперь уже гусарский офицер решает жестоко отомстить за прошлые унижения. Он начинает бешено, страстно ухаживать за Сушковой, буквально влюбляет ее в себя, расстраивает практически договоренный брак с Лопухиным, а затем пишет анонимное письмо ее родственникам, в котором сообщает, что негодяй Лермонтов (т. е. он сам) не имеет серьезных намерений в отношении девицы Сушковой и поэтому советует отказать Лермонтову от дома. Естественно, родня Сушковой, поверив анониму, перестает принимать Лермонтова. В одном из своих писем А. М. Верещагиной, написанных зимой 1835 г., Лермонтов совершенно определенно высказывается в том духе, что он сознательно шел на скандал, чтобы привлечь внимание светского общества к своей персоне. Именно поэтому он не делал секрета из своей выходки, и она получила широкий резонанс. Едва ли до Пушкина не докатились отголоски этой шумной мистификации. Она оказалась неизвестной только пушкинистам в силу узкой специализации нашего литературоведения – все знать о Пушкине, все знать о Лермонтове, но держать все эти знания в отдельных изолированных ячейках. Ведь Пушкин с Лермонтовым по жизни лично не общались! Ну и что? А комментируя лермонтовское «На смерть поэта», Н. Эйдельман восклицает: там все сказано! Но ведь это говорит о том, что, так и не встретившись с Пушкиным, Лермонтов был в курсе интриг, которые плелись вокруг его кумира. Однако, и Пушкин, не зная Лермонтова как начинающего поэта, наверняка был наслышан об эпатажных «шалостях» молодого гусара из Царского Села. Все было близко, все жили тесно.