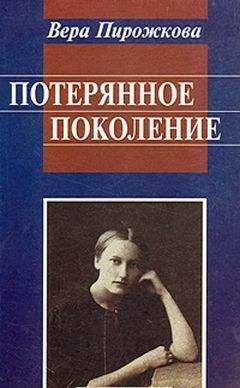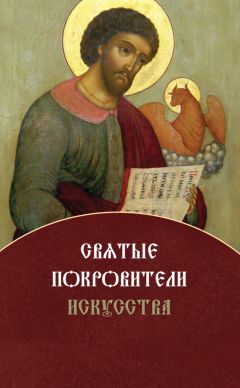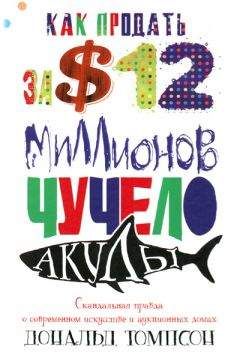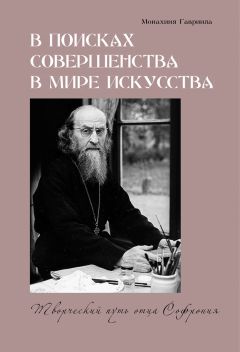Вера Пирожкова - Потерянное поколение: Воспоминания о детстве и юности
Как я уже писала, в то время нас охватила активность внутри школы. И для меня это вышло на первый план. Абстрактные мечты о свержении советской власти и преобразовании всей страны уступили временно место «малым делам», активности внутри школы, желанию улучшить что можно было улучшить на месте. Эта активность, думаю, и повела моих подруг в комсомол. Но мы, повторяю, об этом между собой не говорили. Я не настаивала на объяснении с их стороны, вернее, совсем не спрашивала, они не объясняли. О политике и об идеологии мы пока между собой не говорили. Но вот политические анекдоты все же рассказывали, причем очень злые. Я знала тогда множество политических анекдотов, они ко мне как-то сами летели. Кто именно рассказывал мне тот или иной анекдот, я уже не помню, осталось лишь в памяти, что Зина, комсомолка, рассказала мне следующий анекдот:
Сталин стал как-то раздумывать, не следует ли все же чем-нибудь порадовать народ, но так, чтобы государству не было накладно. Вдруг к нему явился какой-то незнакомый человек и сказал: «Дай мне слово, что не казнишь меня, тогда я научу тебя, что сделать, чтобы доставить народу радость, а государству было бы не накладно». Сталин дал обещание. Когда этот человек вытащил из кармана толстую веревку, дал ее Сталину и сказал: «Вот, повесься на этой веревке, народу будет огромная радость, а государству совсем не накладно, как раз наоборот». Нравился мне анекдот, который рассказывался после смерти Максима Горького, когда русские города и веси стали называть его именем. Какой-то профессор литературы предложил в честь Максима Горького назвать всю нашу эпоху «максимально горькой». И в тот год я записала себе в тетрадь, именно записала, не только запомнила, прекрасное переложение пролога к «Руслану и Людмиле»:
У Лукоморья дуб срубили, Златую цепь в Торгсин снесли, Кота в котлеты изрубили, Русалку паспорта лишили, А лешего сослали в Соловки. Из курьих ножек суп сварили, В избушку три семьи вселили. Там нет зверей, там люди в клетке, Над клеткою звезда горит, О достиженьях пятилетки Им Сталин сказки говорит.
В этот же период моей жизни начались первые размышления о смысле жизни. Кругом было все тяжело и даже страшно, хотя конец 1935 и начало 1936 года дали некоторую передышку. Или я, занятая иными вопросами, не так замечала, что творится кругом. Показательные процессы над старыми большевиками никого в нашей семье внутренне не затронули: за что боролись, на то и напоролись. Гибель крестьян, аресты ни в чем не повинных обыкновенных людей были ужасны, а старым большевикам туда и дорога. Но все же вокруг было грустно и страшно. Как же жить? Где внутренний выход? Как хотелось мне поговорить об этом с моими родителями! Но это было невозможно, а отчего, мне даже и теперь трудно сказать. Моя мать, правда, считала все эти запросы о смысле жизни блажью, а мой отец, казалось, мог бы их понять, но как-то не отзывался. Это не может быть объяснено страхом говорить откровенно. Мы в семье всегда говорили между собою вполне откровенно, причем на гораздо более опасные политические темы. Так, мой отец нередко высказывал сожаление, что в момент революции был Николай II, а не Николай I. «Он бы не отрекся от престола, – говорил мой отец, – а стал бы сам во главе войск и разогнал бы их всех». И у меня в душе жило тогда что-то вроде обиды на последнего государя. Он так быстро и легко отрекся от престола и оставил всех нас, тогда еще не родившихся, на произвол этих страшных людей. Не в моей натуре было вообще сдаваться без борьбы. Он должен был бороться, думала я, если б он погиб в борьбе, то такова судьба, но надо было хоть попробовать. Может быть, в его пассивном принятии мученичества был более глубокий смысл. Тогда я, во всяком случае, понять его не могла.
В то время я также ясно ощутила, что надо мной, как и над всеми нами, тяготеет огромная, искусная, страшная пропагандистская машина, которая хочет всех нас внутренне деформировать. Мои родители, которым было 38 лет, когда произошла революция, не могли, видимо, понять, что эта пропагандистская машина означает для подрастающего человека, еще полуребенка. Они были вполне устоявшимися людьми боялись только внешней силы, могущей погубить их физически, а не такой, какая могла бы их внутренне деформировать. Я же начала понимать эту силу именно как таковую. Она давила на мою душу.
Между прочим, то, что мой отец не испытывал ни малейшего опасения внутренне сломиться, зависело от его сильного характера и целостной натуры. Я уже в то время видела немало внутренне сломившихся интеллигентов, пораженных, завороженных этой огромной силой и склонившихся перед ней не только внешне, но и внутренне. Значительно позже, уже в эмиграции, я прочла у поляка Милоша о том, как сдалась часть польской интеллигенции, сдалась именно внутренне. Ход мысли был таков: если эта сила победила, то, значит, таков исторический процесс, а спорить с историческим процессом нельзя. Я с ироническим чувством читала стихи Брюсова, спрашивавшего русскую интеллигенцию, чего же она растерялась, не этого ли она хотела, не за это ли боролась десятки лет? И в самом деле, многие русские интеллигенты не ожидали, что их деятельность, которую они сами воспринимали как сеяние «разумного, доброго, вечного», дает такие результаты. Их идеалы, которым они посвятили всю свою жизнь, обернулись перед ними страшной рожей, и у них не было ничего, что они могли бы противопоставить этому не только внешнему, но и внутреннему крушению. Все это прекрасно описано С. Франком в его «Ереси утопизма», «Крушении идолов» и других вещах, как ею, так и иных авторов. Но это мне тогда доступно не было. Однако я чувствовала внутреннюю червоточину в значительной части русской интеллигенции, какую-то внутреннюю порчу, которая заставляла эту ее часть капитулировать именно внутренне. Я спрашивала себя, не нравы ли в этом смысле коммунисты, говорящие о мягкотелости интеллигенции? Я не знаю, почему именно один из обычных пропагандных советских фильмов о гражданской войне, «Подруги», вызвал во мне сознание, что эта интеллигентская мягкотелость есть и во мне. Я с ужасом подумала, что я не застрахована от внутренней сдачи под давлением коммунистической пропаганды. Я и сейчас хорошо помню, как сидела за своим небольшим письменным столом, вернее, обычным столиком, превращенным в письменный стол, и давала себе слово, что эта пропаганда меня не должна сломить. Если бы даже я пришла к выводу, что коммунистические идеи правильны, я должна сделать это сама, свободно, внутренне свободно, а не под давлением пропаганды. С этого момента я начала сознательно воспитывать в себе твердость и внутреннюю самостоятельность. Через три года, к 17 годам, я пришла к выводу, что я свое внутреннее воспитание успешно завершила.
На этот самый значительный год развития в моей ранней юности пало и семейное событие, которое заставило меня много думать о верности и доверии супругов друг к другу, об их взаимоотношениях. Мой брат решил развестись со своей женой.
Он, инженер путей сообщения, после окончания института устроился в Ленинграде. Женат он был, как я уже писала, на Вере Петровне Атлантовой, певице. В семье ее все любили. Она была прелестной, образованной и шармантной женщиной, хотя, как и у всякого живого человека, лицо у нее иногда было прекрасным, а иногда почти некрасивым, все зависло от того внутреннего света, о котором пишет Толстой относительно Наташи Ростовой. У них был сын Игорь, тоже прелестный мальчик. Все было хорошо, пока брат служил в Ленинграде. Но вот вышло новое распоряжение: молодых инженеров – на линию. Брата перевели в Старую Руссу, а его жена не захотела туда переехать, так как она продолжала совершенствовать свой голос, а в Старой Руссе вряд ли нашла бы квалифицированных учителей пения. Я не говорю, что Вера Петровна была права: семье трудно жить в территориальном разрыве, но все мы, мой отец и все сестры, считали, что и брат должен был бы проявить понимание и терпение. Только моя мама оправдывала своего единственного оставшегося в живых сына. Так или иначе, брат ждал год, а потом развелся с женой.
Тогда у него уже была новая невеста. Может показаться странным, но он не выбрал себе молодую девушку, хотя им увлекались и женщины много моложе его. Его новая жена, Лидия Александровна, была одних лет с ним, вдова с двумя дочерьми, старшая из них моего возраста. С ней мы быстро подружились. Внешне Лидия Александровна и Вера Петровна имели сходство, обе были темноволосые и темноглазые, высокие, только Л.А. довольно полная. Лицом же она была необыкновенно красива; дочь обрусевшего грека и русской матери, она являла собой тип классической греческой красоты, как античная статуя. Черты лица были безупречны, овал, точеный нос, большие миндалевидные глаза, маленький ротик – ею можно было любоваться часами, как прекрасной скульптурой, пока она не открывала этого своего прекрасного ротика. Л.А. была малообразованной, малокультурной женщиной, и в этом отношении полной противоположностью Вере Петровне. Почти ко всему равнодушная, только в припадках ревности она проявляла удивительный темперамент. В первое же посещение нашей семьи она устроила брату сцену ревности вплоть до намерения бежать топиться в Великую, хотя никакого повода для этого в тот момент не было. Для меня все это было снова предметом долгих размышлений и полного резкого отрицания ревности, чувства унизительного как для ревнующего, так и для ревнуемого. Конечно, я теоретизировала, хотя и у меня самой было нечто вроде опыта ревности со стороны Лиды во время ее стараний сделать из меня свою исключительную подругу.