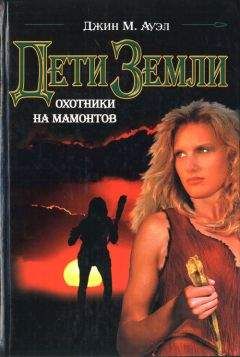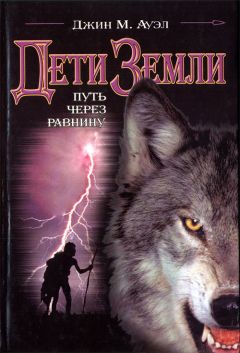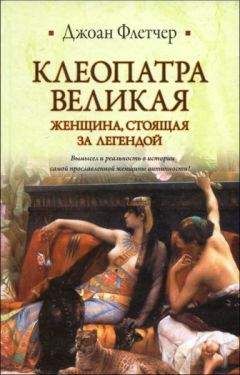Франсин дю Плесси Грей - Они. Воспоминания о родителях
Осенью 1928-го[37] Иосиф Сталин в одиночку возглавил коммунистическую партию и начал жестокую перестройку советского общества. Началась коллективизация[38]. Планы развития были разделены на “пятилетки”, они провозглашали, что тяжелая промышленность станет производить вчетверо больше прежнего, а государство вновь станет управлять всеми предприятиями, Советский Союз будет изолирован от Запада, и – что напрямую касалось Маяковского – партия возьмет под жесткий контроль все сферы образования и культуры.
В январе 1929-го Сталин изгнал из страны Троцкого и начал по одному уничтожать культурные организации и отдельных писателей. К осени выехать из СССР было уже очень сложно.
В условиях этой так называемой революции сверху власть на литературном поприще захватила Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) – самое могущественное литературное объединение Советского Союза. В декабре 1929 года в передовице газеты “Правда” вышло требование всем советским писателям вступить в РАПП. Им предписывалось воспевать пролетарские ценности и изгонять из своего творчества всё буржуазное и уклонистское. Вот почему осенью 1929 года Маяковский не вернулся в Париж к моей матери – ему то ли не дали визу, то ли непрозрачно намекнули, чтобы он даже не смел ее просить.
Неверные воспоминания стареющих современников об этом периоде размыты и скорее относятся к области домыслов. Как бы то ни было, те же исторические силы, что раскололи Россию на костенеющее Советское государство и милую утраченную родину, которую хранили воспоминания эмигрантов по всему миру, разделили в конце концов и двух влюбленных.
Мать моя вспоминала об этом так: вскоре после октябрьского письма Маяковского она узнала от Эльзы Триоле, что ему не дали визу. (Хотя гордость и не позволяла ей признаться, я не исключаю, что Триоле, по наущению сестры, рассказала Татьяне в том числе о Норе Полонской.) Это была ужасная весть. Тем временем друзья рассказывали ей, что в России начались репрессии, и сам поэт в изредка доходивших письмах всё намекал на какие-то “неприятности”. Татьяна поняла, что у них с Маяковским нет будущего, и занялась устройством своей жизни – одним из ее поклонников был красавец-дипломат виконт Бертран дю Плесси. Француз, четырьмя годами старше нее, специалист по славянским языкам, весь прошлый год прослужил атташе при французском посольстве в Варшаве. В середине октября 1929-го, когда он приехал в Париж, мама приняла его предложение.
К несчастью, у нас не сохранилось ни одного письма из ее переписки с матерью в период с середины октября до конца декабря 1929-го. Письма, в которых она рассказала о дю Плесси, их помолвке и скором браке, не дожили до наших дней. Документы в архиве музея Маяковского гласят, что в начале 1930-х годов агенты НКВД нанесли моей бабушке в Пензе несколько визитов и изъяли письма из-за границы. То ли по странному совпадению, то ли намеренно, они забрали все письма, отосланные в последние десять недель 1929 года. В последнем ее письме от 15 октября кратко сообщается, что “Маяковский зимой не приедет”. До конца декабря писем больше не было. Поэтому об окончании романа мы знаем со слов Лили Брик – много лет спустя она вспоминала, как одним октябрьским вечером Маяковский узнал о помолвке Татьяны.
Мы мирно сидели в столовой Гендрикова переулка. Володя ждал машину, он ехал в Ленинград на множество выступлений. <…> В это время принесли письмо от Эльзы. Я разорвала конверт и стала, как всегда, читать вслух. Вслед за разными новостями Эльза писала, что Т. Яковлева, с которой Володя познакомился в Париже и в которую был еще по инерции влюблен, выходит замуж за какого-то, кажется, виконта, что венчается с ним в церкви, в белом платье, с флердоранжем, что она вне себя от беспокойства, как бы Володя не узнал об этом и не учинил скандала.
В этом лицемерном пассаже отчетливо видна неприязнь Лили к моей матери. Дальше Брик заявляет, что якобы не стала бы читать письмо вслух, если бы сестра предупредила ее.
Володя помрачнел. Встал и сказал: “Что ж, я пойду”. “Куда ты? Рано, машина еще не пришла”. Но он взял чемодан, поцеловал меня и ушел.[39]
Далее Лиля приводит воспоминания шофера Маяковского, который говорит, что тем вечером поэт ругался, а затем молчал всю дорогу до вокзала. “Простите, не сердитесь на меня, товарищ Гамазин, пожалуйста, у меня сердце болит”, – сказал он по приезде.
На следующий день Лиля решила поехать за Маяковским в Ленинград, чтобы приободрить его. Пока они ездили с одного чтения на другое, Владимир отпускал язвительные шуточки про французских аристократов – как ни напряженно складывались его отношения с советским режимом, мысль о том, что любимую женщину у него отнял аристократ, была ему особенно невыносима. “Мы работаем, мы не французские виконты”, – говорил он. Или: “Если б я был бароном”. Даже Лиля признает, что Маяковский отказывался признавать замужество Татьяны.
Сама Татьяна вспоминала о событиях октября 1929 года в разговорах с ближайшим другом последних лет жизни – русским ученым и историком балета Геннадием Шмаковым. Шмаков собирался писать ее биографию: с ним она говорила о прошлом откровеннее, чем с кем бы то ни было.
Я его [Маяковского] любила, он это знал, но я сама не знала, что моя любовь была недостаточно сильна, чтобы с ним уехать. И я совершенно не уверена, что я не уехала бы – если б он приехал в третий раз, потому что очень по нему тосковала. Я, может быть, и уехала бы… фифти-фифти. <…>
– Значит, узнав, что он не приезжает, ты решила выйти замуж?
– Чтобы развязать узел. Осенью 1929-го дю Плесси оказался в Париже и стал за мной ухаживать. Я была совершенно свободна, ибо Маяковский не приехал. Я думала, что он не хочет брать на себя ответственность, сажать себе на шею девушку, даже если ты влюблен. Если бы я согласилась ехать, он должен был бы жениться, у него не было бы выбора. Я думала, может быть, он просто испугался… Как тебе объяснить?[40] Я себя почувствовала свободной. Мы с дю Плесси ходили в театры, я ему сказала, что чуть не вышла замуж за русского. Он бывал у нас в доме открыто – мне нечего было его скрывать, в конце концов он был француз, холостяк, ему было далеко до Маяковского, но я вышла за него, он удивительно ко мне относился.
– Ты его любила?
(Долгая пауза.)
– Нет, я его не любила. В каком-то смысле это было бегство от Маяковского. Ясно, что граница для него была закрыта, а я хотела строить нормальную жизнь, хотела иметь детей, понимаешь? Франсин родилась через девять месяцев и два дня после свадьбы.[41]
Мои родители поженились 23 декабря 1929 года. Шесть дней спустя Татьяна написала матери из свадебного путешествия по Италии. В первом письме – из Неаполя – она описывает свадьбу. Под венец ее вел дядя, Александр Яковлев, и он же купил ей платье, которое имело “колоссальный успех”. Они с Бертраном отправлялись в Помпеи. Он был “бесконечно заботливым, нежным мужем и восхитительным попутчиком”. Через три года они разошлись. Возможно, отец понял, что мать его не любит. Возможно, он был первым, кто догадался (сама я поняла это, только читая их переписку) – Маяковский был единственной великой любовью в жизни Татьяны.
Последние месяцы жизни Маяковского были отмечены серией разочарований. Пьесу “Баня”, в которой поэт яростно нападал на костенеющую советскую бюрократию, которая, по его мнению, предавала идеалы революции 1917 года, – встретили, как выразился один из его друзей, “ледяным молчанием”. Неприязнь публики в большей степени относилась к личности Маяковского. Хотя он редко пользовался автомобилем, который привез Лиле из Парижа годом раньше, каждая поездка на нем (перед которой он, кстати, просил у нее разрешения) вызывала яростные нападки. Маяковского критиковали даже за французскую ручку Waterman, прощальный подарок моей матери, который он всюду носил с собой. Выставку плакатов, рисунков и книг “Двадцать лет работы”, которая открылась 1 февраля 1930 года, бойкотировали все писательские объединения – на нее пришли одни студенты. Полонская вспоминала, как Маяковский шагал по пустым комнатам, опечаленный (“Но ты подумай, Нора, ни один писатель не пришел!.. Тоже, товарищи!”). В январе он читает оду к Ленину в Большом театре перед Сталиным и Молотовым, но даже это событие не радует его. Зима 1929-1930-го обернулась цепочкой неудач. Маяковский чувствовал себя в изоляции, а Полонская вспоминала, что, если не считать неоконченной поэмы “Во весь голос”, у него был явный творческий застой. Во вступлении он привычно пишет о себе: “Ассенизатор //и водовоз, // революцией // мобилизованный и призванный” – и вместе с тем откровенно жалуется, что ему приходится становиться “на горло // собственной песне”. Эти строки демонстрируют его разочарование, болезненный разлад между коммунистическими идеалами и реальностью, между мечтами и отчуждением общества, его давлением и необходимой каждому поэту свободой.