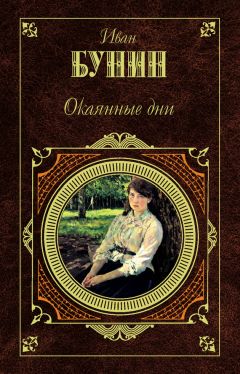Иван Бунин - Искусство невозможного. Дневники, письма
По-прежнему неприятен отъезд И. Ис. Был он как будто неслышен в доме, а исходило от него какое-то успокоительное доброжелательство.
20 июня
Знойные, светом переполненные, настоящие провансальские дни.
Выбежала сейчас на минуточку наверх, прошла по террасам, посидела в тени оливок — внизу пыльно-розовая черепица потоком льется с горы. Две башни — одна совсем черная, точно обуглившаяся, с белым ободком вокруг неровного окошка — все купается в горячем золотом свете. Какая радость в этой сухости, в теплоте земли, трав, все новых и новых диких цветов, кустами расцветающих на стенах, в расселинах между камнями…
Вчера ездили в Канны. Пили чаи в ресторане над морем. Прекрасный джаз-банд и три пары танцевали чарльстон. Я так обрадовалась даже этой музыке, что сама удивилась — неужели я так все это люблю? Одна пара танцевала отлично.
И.А., с не меньшим, чем я наслаждением смотревший и слушавший, сказал: «Нет, это все не так просто. В этом есть все-таки большой яд, большая талантливость, ловкость…»
24 июня
Приехал Рощин — пока еще не вошел в атмосферу дома и бродит в новеньком галстуке и свежей рубашке по дому и саду. Кажется, ему немного скучно и все еще длится необходимость ехать дальше. Поэтому он уже строит планы насчет поездки в горы, в Ниццу, чем вызывает неудовольствие И.А., всячески старающегося поддерживать рабочее настроение в себе и других. Сам он начал большой роман и боится перерывов в работе. Я ему завидую, хотя и остерегаюсь говорить об этом: меня уже достаточно все бранят за «максимализм».
Дни неопределенные, то знойные, сияющие, то серые, чуть мглистые. Вчера вечером, в канун Иванова дня, были всюду зажжены костры. Сквозь туман это было очень красиво — вся долина усыпанная большими красными огнями, а на площади в девять часов играл оркестр и пели какие-то белые, одинаково одетые девицы. Несмотря на трогательную старательность, детонировали они сильно. Изумительно как мало музыкальны французы! Италия совсем рядом, страна с таким же климатом, как здесь, кажется, то же небо, воздух, а между тем… как поют внизу простые итальянские рабочие!
26 июня
Как-то, кажется позавчера, меня вдруг позвали в неурочное время вниз. Я сбежала, и В.Н., уходившая к парикмахеру, шепнула мне на лестнице, что приехал Шульгин, книгу которого «Три столицы» мы только что все прочли и много говорили о ней. В.Н. ушла, и хозяйничать за столом пришлось мне. Он внимательно взглянул на меня, когда нас знакомили. За столом я рассмотрела его. Он весь в белом, наголо обрит, большой рот сверкает золотыми зубами. В форме головы есть что-то, напоминающее большую лягушку. Глаза зоркие, близко поставленные, глубоко сидящие в темных орбитах. Все время, пока он говорил — легко, без всякого усилия переходя с предмета на предмет, слушая себя, — я невольно следила за его руками: очень белые, большие, мягкие, тщательно вымытые, с коротко обрезанными розовыми ногтями и черными волосами на тыльной стороне, они беспрестанно двигались, встречались, закругленно захватывали то блюдце, то чашку, — вообще его руки заставляют думать о чувственном темпераменте, что, впрочем, подтверждается идущей о нем славой женолюбца. И сейчас он приехал на юг с молодой женой, по слухам хорошенькой. Ему лет пятьдесят пять, пятьдесят восемь, но никто не дал бы ему их, глядя на него. Говорили почти исключительно о его путешествии в советскую Россию, описанном в «Трех столицах», причем он сам сказал, что теперь у него почти нет сомнений в том, что возили его чекисты. О деле Коверды отозвался неодобрительно. И.А. сам говорил мало и больше расспрашивал его, видимо, присматривался и прислушивался — он с ним познакомился очень недавно. Он уехал после часового разговора, обещав приехать как-нибудь завтракать с женой. После его ухода мы с И.А. ходили по саду и говорили о нем. В этот день все были вообще немного возбуждены, и вечером И.А. читал нам в саду свой новый рассказ «Божье древо».
Сегодня пришло письмо от Кантора, редактора «Звена». Он пишет, что летом журнал будет выходить в малом размере и поэтому мой рассказ в полтора печатных листа не может быть напечатан, но осенью он надеется на расширение и предлагает оставить рукопись до тех пор у них.
Все читали и комментировали это письмо за завтраком. Фондаминский, как опытный редактор, прочтя письмо внимательно, посоветовал оставить у них рукопись. Я решила оставить.
1 июля
После тою как И.А. вчера прочел мне несколько глав из романа, который он пишет, я потеряла смелость. Писать какой-либо роман рядом с ним — претенциозно и страшно. И все-таки мне хочется писать…
2 июля
Ходили после завтрака в город. День изумительный, внизу на площади пустота и солнце, каменный фонтан один плещется в этой тишине, переполненный водой, сияющей на свету. И.А. остановился и, удержав меня за руку, сказал: «Вот это то, что я больше всего люблю, — настоящий Прованс!» — и, помолчав, прибавил: «Мне почему-то всегда хочется плакать, когда я смотрю на такие вещи».
Когда мы поднимались через сад Монфлери, он все время обращал мое внимание на небо, действительно и изумительно прекрасное, густого голубого цвета, в котором есть и что-то лиловое. В этом лилово-голубом особенно прелестно мотаются мягкие, ярко-зеленые ветви елей, облитые солнцем и непередаваемо прекрасные. И он все брал меня за локоть и говорил: «Как они прелестны и как хорошо им там вверху… Еще в детстве было для меня в них что-то мучительное…»
Уже на подъеме к нашей вилле мы засмотрелись на море, резко голубое, к горизонту чуть размазанное чем-то белым, что, занимаясь, как воздушный пожар, переходило на небо. И он сказал мне: «Это надо, придя домой, записать, коротко в двух словах заметить о сегодняшнем дне: о зелени, о цвете неба, моря…» И вот я пишу, но не так коротко, как говорил он, потому что мне хочется сказать и о нем самом, о том, что он был весь в белом, без шляпы, и когда мы шли по площади, резкая линия его профиля очеркивалась другой, световой линией, которая обнимала и голову и волосы, чуть поднявшиеся надо лбом…
5 июля
Рассказ кончила, он перепечатан на машинке и исправлен. Я им более или менее довольна. Разбег не кончился, и меня все тянет писать еще, по ночам не спится, что-то волнуется внутри и кажется, что можно взять любой кусок жизни и писать его. Это чувство опьяняет, дает какую-то внутреннюю свободу и радостную уверенность в себе. И.А. сдерживает меня, боясь, что я перетяну струну и сорвусь. Я, правда, все ощущаю как сквозь легкое опьянение, все, даже природу, и у меня уже пробивается утомление. Впрочем, последние дни никто в доме не работает — сегодня уезжает уже окончательно в Париж Илья Исидорович. Вчера весь день они с Рощиным укладывали в ящики книги для отправки вслед за ним. Погода неопределенная, есть что-то беспокойное в воздухе, и это еще усиливает некоторую расслабленность в теле. И все-таки с наслаждением думаю о часах, которые летят так незаметно за работой и дают такую сосредоточенною радость.